Портрет
 Встречу эту следовало бы отнести к разряду странных. Это был, наверное, первый и последний раз, когда он, будучи трезвым, знакомился с девушкой на улице. А если учесть, что пить он бросил лет двадцать назад и что это было практически в другой жизни, то можно назвать этот случай действительно чрезвычайным. И это при том, что он был художником, которому, как и режиссерам, сам Бог, что называется, велел знакомиться с натурой там, где придется, то есть, в основном, в случайных местах, и как раз на улице.
Встречу эту следовало бы отнести к разряду странных. Это был, наверное, первый и последний раз, когда он, будучи трезвым, знакомился с девушкой на улице. А если учесть, что пить он бросил лет двадцать назад и что это было практически в другой жизни, то можно назвать этот случай действительно чрезвычайным. И это при том, что он был художником, которому, как и режиссерам, сам Бог, что называется, велел знакомиться с натурой там, где придется, то есть, в основном, в случайных местах, и как раз на улице.
В тот вечер он прогуливался по скверу неподалеку от своего дома, обдумывая детали очередной картины. При этом он всячески убеждал себя в том, что ничего не обдумывает, а гуляет просто так, ну а если уж что-то и придет ему в голову, то так уж и быть, он, возможно, использует это в своем сюжете.
Вечерок был отменным, — устанавливались первые теплые деньки, — и мысли поэтому в голову лезли не столько о картине, сколько об окружающей его натуре. Пару месяцев назад он окончательно расстался со своей… да нет, не очередной подружкой, а, можно сказать, гражданской женой, с которой прожил почти пять лет. Их взгляды на следующие пять и более лет окончательно не совпали.
Стабильность — модное ныне слово – стабильность существования была тем самым нарушена, и это самым отрицательным образом сказалось на его творчестве. Он и так-то был средней руки художником, прямо скажем, не Боттичелли и даже не Сомов, а тут и вовсе вдохновенье оставило его, и он пробавлялся лишь коммерческими заказами — душа же алкала, но разговеться не могла. Это его порядком удручало. Хорошо еще, что вновь не запил.
Нарезая круги вокруг сквера, он обратил внимание на странную картину. На одной из скамеечек сидело двое. Она, девушка, чуть ли не со слезами на глазах все пыталась ему, мужчине лет тридцати, что-то втолковать, он же, с мрачным видом, все курил и курил, и непонятно было, слушает он ее или думает о чем-то своем. Затем, в какой-то момент, он резко встал, грубо оттолкнул протянутую было к нему руку и, ни слова не говоря, направился прочь. Инстинктивно она потянулась за ним, но ответом был такой ледяной взгляд, что она осеклась и осталась на месте.
Из глаз ее в три ручья потекли слезы, и несчастнее ее в эту минуту, наверное, трудно было сыскать во всем белом свете. Было это так или это бурное воображение художника добавило драматургии к этой сцене, но он мог поклясться, что так оно все и было… Острое чувство жалости пронзило его душу… Или это пролетавший амурчик запустил в него одну из своих стрел? Как бы то ни было он не смог остаться безучастным. При этом он все же не сразу подошел к девушке. «Сделаю еще один круг, и если она все еще будет здесь, подойду», — благоразумно подумал он. Благоразумно, потому что подойди он сразу, получил бы немедленное аттанде. А так, пять минут спустя и уже с цветком в руке, купленным в киоске по соседству, он имел хоть какой-то шанс.
— Извините, я тут явился невольным свидетелем… — Девушка вся вспыхнула и зарделась. — Мне крайне жаль…
— Жаль, что явились свидетелем?
— Нет, жаль вас…
— А меня не надо жалеть…
— Я понимаю — несовременно. По нынешним временам я должен был бы равнодушно пройти мимо. Но я и вообще не очень-то современен. Я, знаете ли, художник…
Она впервые подняла на него свои погасшие, но прелестные глазки.
— Возьмите! – и он протянул ей цветок.
— Художник должен дарить их как минимум миллион… И потом – роз, а не ирисов…
— У цветочницы столько не было. А я не успел подготовиться. Но поверьте, вы достойны… И уж точно не достойны … Но я не хочу больше об этом. Давайте я вас просто провожу.
Она не возражала, и он весь оставшийся вечер травил ей байки из жизни богемы, а под конец вечера, когда она уже окончательно пришла в себя, предложил ей позировать ему.
— Я знала, что все этим кончится, все вы такие… художники…
— Нет, вы меня неправильно поняли. Я не специалист в области ню. Я скорее портретист. И мне интересен ваш нынешний образ… Он не стал продолжать, но имел в виду образ скорбной женщины — именно так ему хотелось представлять свою бывшую пассию, которую он нет-нет, да и хотел набрать по телефону.
— Мой образ уже завтра переменится.
— Тогда давайте начнем сегодня! Шутка! — испугался он. Меньше всего ему сейчас хотелось показаться наглым. — Я верю, такая девушка как вы не засидится… Поэтому и хотелось бы поймать момент…
— Ничего не могу вам обещать, но позвоните завтра. И… спасибо за ваше участие, вы действительно помогли мне немного прийти в себя.
Когда через день она оказалась в его студии, он, честно признаться, пожалел о сделанном ей предложении. «Момент», как он выразился тогда, был упущен. За эти два дня она повеселела, но превратилась в довольно заурядного вида деви… нет, все же — девушку, немного прифуфырившуюся — к случаю — и от этого еще больше утратившую от того образа, что он создал в своем воображении. Он же все эти два дня не переставал думать о ней, и под утро второй ночи картина уже почти в завершенном виде приснилась ему. Но он тут же забыл ее. Остался лишь флер, и явившийся теперь оригинал никак не соответствовал этому флеру.
Все же он постарался быть предельно любезным, и это ему почти удалось.
Под конец сеанса он даже думал было предложить ей сходить в ближайшее кафе, но вовремя сдержал себя — «Мне надо еще поработать», — и она оставила его студию с некоторой долей разочарования.
Они стали встречаться через день. Постепенно она увлеклась этой новой для себя жизнью и ролью. Начала входить в нее. И тем самым все больше отходить от того образа, который он ей изначально уготовил.
Его это поначалу досадовало, но затем он согласился на перемену образа, тем более что тот, новый, что постепенно начал складываться у него в голове, все больше и больше увлекал и завоевывал его.
Это был уже не образ скорбящей женщины, а образ женщины, возвращающейся к жизни. Черты лица мало-помалу разглаживались, краски приобретали более светлый оттенок, а поза и мимика — все более свободные черты. Тем более что и весна постепенно брала свое… И он, художник, не мог не чувствовать эти радужные настроения в природе и не стараться, интуитивно или сознательно, не переносить их на свое полотно. Как ни гнал он от себя мысль о Боттичелли, творящем свою Флору, он все никак не мог решительно и до конца отделаться от нее. И это начало находить отражение даже в стилистике картины — столь не характерной для него и столь откровенно несовременной. Он досадовал на себя, но ничего не мог с этим поделать.
Ей же, напротив, все это чрезвычайно нравилось — как человеку особо неискушенному в искусстве нравится в первую очередь все красивое и красивенькое. А себя-то в красоте кто не полюбит! Она даже реже стала смотреться в зеркало — досадовать на него. Ее бы воля, она бы оставила лишь одну себя — вот эту, что на мольберте. Она была очень признательна художнику. Он изо дня в день поднимал рост ее самооценки. При этом она не могла полюбить его — он был не в ее вкусе, но в какой-то момент из одного чувства благодарности она могла легко отдаться ему. Но он не настаивал. Он не спал с моделями.
Он и в целом-то относился с большим пиететом к женщинам, а модель для него, пока он работал, была вообще чем-то не от мира сего, чем-то неземным. А разве можно представить себе что-то более абсурдное, чем ночь с небожительницей?
Работа близилась к своему завершению. Он уже понял, что картина не удалась, но не оставлял попыток что-то еще исправить и тем самым спасти ее. И еще менее он хотел остановить тот процесс созидания уже не на полотне, а в жизни, что его работа творила с самой девушкой. Из обиженной женщины она действительно все больше превращалась в цветущую девушку — уверенную в себе и знающую себе цену.
Картина буквально творила ее, чего, к сожалению, нельзя было сказать о самой картине. Чем более комплементарной становилась она на поводу гласных и негласных просьб модели, тем больше художник ее ненавидел. Картину, а не девушку. Девушку же он все больше… Нет, любовь — слишком сильно сказано, скорее — идеализировал, но процесс шел настолько успешно, что до любви оставался один шаг.
«Вы — он так и не перешел с ней на «ты» — мое истинное произведение искусства», — в припадке искренности как-то сказал он ей, и она это восприняла уже как должное. Она вообще многое, все его знаки внимания, стала воспринимать как должное, и от этого ей стало становится даже как-то скучно. Ей становилось тесно в рамках его внимания, его студии, его жизни.
Он почувствовал это охлаждение и, конечно же, сделал ложный шаг — стал уделять ей еще больше внимания, да и сам стал требовать большего — видеться чуть ли не каждый день, оставаться и куда-то ходить после сеансов. Не против он был теперь перейти и на более интимный уровень отношений. Он хотел, вопреки ее желанию, еще больше сузить рамки их отношений и ее, ныне требующей новой широты, жизни.
Конфликт приближался. Она не уклонялась от него, он же упорно жал на газ вместо того, чтобы жать на тормоз…
Равнодушно пройдя мимо зеркала и отодвинув вазу с букетом свежих роз, она внимательно взглянула на портрет. «Вы так и не убрали эту морщинку со щеки» — недовольным голосом сказала она.
— Но, дорогая, я не могу этого сделать. Это не морщинка, это тень. Убери я ее, и взгляд потухнет. Вы же не хотите, чтобы взгляд потух…
— Я не хочу, чтобы оставалась эта морщинка, она меня старит…
— Молодую девушку старить ничто не может. Даже столь модные ныне черные платья а-ля Коко Шанель. Они лишь подчеркивают их молодость, — попытался перевести все в шутку он. — У вас есть черные платья?
— Не заговаривайте мне зубы…
— Да, не буду. Давайте начнем сеанс…
— Нет.
— Что значит, нет?
— Нет, пока вы не уберете эту морщинку.
— Но вот так враз этого не сделать. Это нарушит общий баланс. Я обещаю вам подумать, как это можно сделать без ущерба для образа в целом, сегодня вечером… Ах, нет, мы же вечером хотели пойти на вернисаж к моему другу…
— Я не могу.
— ?!!
— У меня дела.
— Но мы же договаривались!
— А тем более что вы не хотите пойти мне навстречу и убрать эту злосчастную морщинку!
— Это шантаж, — попытался перевести все в шутку он. — Это бунт на корабле? Модель, бунтующая против художника?
— Опять вы — эта «модель». Я же просила. Да и вы говорили, что я — муза.
— Ну и что, музе тоже не положено бунтовать.
— Но муза может и не прийти, и что тогда будет делать художник? Без вдохновения…
— Но вы же уже тут!
— Я могу и уйти. Я ухожу!
Он по-настоящему опешил, и только и мог, что пробормотать глупое «Не можете».
— А вы что, меня насильно будете удерживать? Да и по какому праву? У нас же даже ничего не было…
— …
— Вот то-то и оно. Да и вообще я вряд ли смогу приходить скоро. Работы много, да и… Эдик мой позвонил…
— Что? Это кто еще?
— А вы разве не помните? Тогда… на лавочке, в сквере.
— Это тот, что с сумрачным лицом и мрачным видом? Тот, что оттолкнул вашу руку?
— Ну, ну, полегче. Прежде чем оттолкнуть, как часто он ее жал и прижимал к сердцу… и не только…
— Вот только не надо пошлости и физиологии.
— Сами вы пошляк, а по части физиологии — не знаю… не удосужилась…
— Прекратите!
Когда она вышла, он еще несколько минут, бледный, как полотно, как холст, с которого разом сняли все краски, постоял, тупо глядя куда-то в угол. Внутри у него было так же пусто и одиноко, как и там.
Затем он сделал несколько неуверенных шагов и взглянул в окно в надежде, что увидит ее хотя бы удаляющуюся спину… Но он потерял счет времени. С момента ее ухода прошло уже не менее получаса, и за это время даже след ее простыл.
Зазвонил телефон.
— Лена!
— Я забыла у вас свое кашне, как-нибудь зайду или лучше оставьте у вахтера.
— Лена!
Гудки.
Прошло еще какое-то время. Но он отказывался верить в происходящее. Только что не щипал себя за руку.
Все события этого последнего месяца прошли перед его глазами во всех своих мельчайших деталях. Они-то, детали, и были самыми важными, но он их как-то раньше не замечал. «Бесполезно, она не вернется».
Он подошел к портрету и долго всматривался в него. Затем, горько усмехнувшись, взял кисточку и махом убрал злополучную морщинку — тень под глазом. Взгляд моментально потух. Искринка пропала.
«Но так оно вернее… истинее», — подумал он. Отложил кисть. Затем взял ее снова. Несколько взмахов… И вот уже на картине сидела не царица ночи, а та же блеклая и заурядная Лена, что явилась к нему на следующий день после их знакомства.
Странное ощущение — убийцы и жертвы одновременно.
Портрет
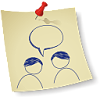












Рассказ мне показался интересным, даже подзаголовок бы ему дала: «Безмерноя пошлость бытия», — вполне соответствует некоторым тенденциям нашего века.
Напомнил одновременно и Уайльда, и Шоу, и Гоголя. Нет ни трагизма, ни восторга, что, как мне кажется, тоже вполне в духе нашего прагматичного времени, не слишком склонного к сильным эмоциям и глубоким переживаниям.
«Амурчик», «расфуфырилась» — все это замечательно передаёт пошловатое скольжение по жизни. Так и неосуществлённый творческий замысел тоже прекрасная метафора: как часто мы, воспаряясь, заканчиваем очередной банальщиной.
Финал же мне показался не совсем оправданным: почему он жертва? Человек, живущий в самообмане, более того, понимающий, что «ум с сердцем не в ладу», может предъявлять претензии только самому себе, как мне кажется.
А вот последняя фраза понравилась. Хотя кажется, что это в рамках одной личности: сам стал жертвой самаообольщения, и сам убил свою не мечту даже, а так , мечтание.
Согласен. Рассказишко так себе. Не стоило и расчехлять. И пыль смахивать, пяти-шестилетнюю. Если бы не…
… Дело в том, что рассказ этот был опубликован мною на другом блоге, не на Контрапункте. И вот там случился комментарий… Собственно, ради этого комментария я и расчехлил и пыль смахнул. Но комментарий остался в домашнем компьютере, и раньше завтрашнего вечера не получится процитировать.
Тем временем перечитал рассказ и понял, что он не так плох, как мне думалось. Нет, нет, не плох, по крайней мере, мне за него не стыдно.
В отношении же «жертва не жертва»: кто сказал, что герой — жертва? Я думаю, что даже напротив. Да, он вполне мог стать ею, но счастливо избежал этой участи… Более того, он неожиданно скоро для себя осознал свое заблуждение. Собственно говоря, об этом речь…
К вопросам о «подтасовке» фактов, пропаганде, субъективизме, зашоренности и т.п.
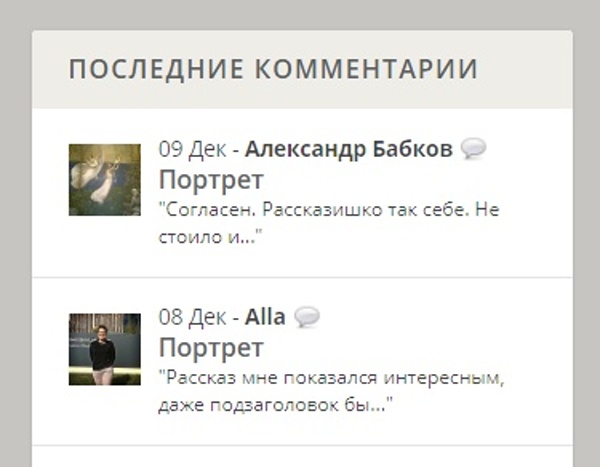
Когда герой делают ВСЕ не так из-за глупых принципов, к примеру, «А разве можно представить себе что-то более абсурдное, чем ночь с небожительницей?», тогда и результат очевиден. Художник, прежде всего должен ВИДЕТЬ (что это далеко не «небожительница»), затем он не должен самообманываться, ну, и лишь потом, в зависимости от степени таланта от «Боттичелли до Сомова» (?), проложить путь к зрителю, желательно, чтобы тот не увидел подноготной великой магии искусства.
Спасибо, Левон. Но… «должен видеть» — «не должен самообманываться» — это все, как мне кажется, здорово напоминает арсенал художественной критики советского периода. Кто кому чего должен или, наоборот, не должен… в искусстве? Если бы герой был художником-соцреалистом, тогда я понимаю. Да и ему самому, наверное, было бы проще. Но дело в том, что он им не был…
Если следовать авторскому тексту, проблема не в том, что герой не был художником — соц-реалистом , проблема в том, что он не был Художником (художник средней руки, коммерческие заказы, «душа не могла разговеться»).
Тем более никому ничего не был должен! И опять-таки речь не о его художественных способностях…
Никому не должен? Cогласен.
Cамого себя из этого списка желательно вычеркивать.
И, конечно речь не о способностях и, тем более, направлениях в живописи.
А о человеческих качествах, влияющих на профессиональные.
Неожиданное продолжение…
Прислушался к настоятельному совету Игоря Бертмана и прослушал от начала до конца оперу Оффенбаха «Сказки Гофмакна». До 2-х часов ночи. А завтра утром ни свет ни заря в командировку. Да вот и сейчас еще сижу и пишу. Скорее всего завтра горько обо всем этом пожалею… Но это будет завтра, сегодня же… Сегодня я в восторге. И от сказок Гофмана, и от оперы, и от прекрасной игры и пения мастеров, настоящих мейстерзингеров европейской оперной сцены. И еще от чего-то, чего никак не мог понять: ни по ходу оперы, ни по ее окончанию. Что-то она мне напоминала, а вот что именно, никак вспомнить не мог. Болезненное это ощущение: вертится-вертится в голове, вот-вот уловишь, а все не уловляется – подлетит, и вдруг взмахнет крылышками и вновь порхает где-то далеко-далеко.
И вдруг, уже лег, озарение. Да ведь это, один в один, как в моем недавнем «Портрете»! Точнее – в моем «Портрете», как здесь. Кроме очередности. У Гофмана с Оффенбахом сначала три разные женщины, поочередно, а затем все три сходятся в одной – в образе Стеллы. У меня же сначала одна, которая затем распадается на три разных образа, идентичных образам героинь Гофмана.
Первая – Олимпия, сломанная кукла, в моем же рассказе — брошенная женщина. Вторая – Антония – победившее тщеславие. И третья – куртизанка Джульетта, лишившая поэта отражения, а моего героя, художника – его идеала.
И даже Стелла, отринутая Гофманом, это та же женщина на портрете моего художника после того, как он добавил штрих, исказивший разом все ее прежние, милые и трепетные черты.
И неважно, откуда такое совпадение: из моего ли подсознания в результате когда-то буквально «проглоченного» мною Гофмана или из общего у всех творческих и претендующих на творчество людей высшего источника идей и откровений… Важно в данном случае то, что благодаря опере я понял, чем в итоге завершилась эта моя история – возвращением моего героя к рюмке. «Вина, вина, налейте нам вина!» поет хор в опере Оффенбаха, и: «Мы будем пить и веселиться до утра!»
«Удел гения – в страдании», – говорит Муза умирающему поэту – Гофману…
«Ну уж нет, – это уже я говорю сам себе, засыпающему. – Это была лишь минутная слабость. Своему герою я волен придумать и дать другую судьбу – куда более светлую и радостную. И тем самым, как любит повторять один мой приятель, мы, я и мой герой, посрамим дьявол!» Гофмановского, в данном случае…