О БЕЗВРЕДНОСТИ МЕЧТАНИЙ
(из дневника одного загранкомандированного)
Жизнь – лучший учитель философии! Это только в начале жизни кто-то становится химиком, кто-то математиком, инженером или журналистом. К концу же жизни все мы, non c’e’ scampo, становимся философами.
Semper Laboremus Ovi In Labore Est Laetizia… (Мы будем трудиться вечно, ибо труд для нас – источник радости).
Сегодня в Италии, впервые, возможно, за 20 лет командировок, я дал себе возможность почувствовать себя синьором.
Выдался свободный день, точнее даже полдня, поскольку уже после обеда я должен был быть в конторе. Я не так уж поздно и встал, но понял, что к завтраку не успею. Поэтому я просто спустился в буфетную и с разрешения персонала отложил себе то, что мне приглянулось.
Затем я вернулся в номер и сделал зарядку, точнее первую, вступительную, ее часть. Вслед за этим – непременная пробежка. По улицам и улочкам моего давнишнего приятеля – городишка Саронно, что под Миланом. В трусах и майке видится он, правда, несколько иначе, чем когда ты в пиджаке и галстуке. Сколько новых своих граней и нюансов он снова мне открыл! Удивительный все-таки город, а сколько еще таких городов и городков в Италии!
Италия… Поистине бездонная эта страна, Италия!.. Даже эти старики, что изо дня в день, из недели в неделю, из года в год сидят на ступеньках центрального собора, даже они не те же – другие! Даже… да что уж тут говорить!
После короткой пробежки – еще ряд упражнений, теперь уже в скверике бывшего Муниципалитета – старинной виллы с надписью на фасаде «Semper Laboremus Ovi In Labore Est Laetizia». Наверняка выбитой уже гораздо позже: вряд ли прежние обитатели и хозяева стали бы декларировать такие принципы. Хотя и приходилось им выполнять в жизни гораздо более важную функцию, чем ту, что выполняют непосредственно трудящиеся. Как раз ту, которую сейчас практически некому выполнять, из-за чего весь мир и катится в тартарары.
Как хорошо здесь, в тени вековых деревьев. Иные из них еще помнят, наверное, своих прежних хозяев. И уж точно, все они пережили фашистский режим, видели приход и становление демократии… Увидят ли они и ее закат? Интересно, что при всех сменах режима эти роскошные туи и кипарисы как стояли, так и будут стоять, гордые, статные, ну, может быть, совсем чуть-чуть надменные как те прежние господа, по чьему приказу они были посажены.
Приобщившись к красивой аристократической жизни (невольно вспомнился дон Фабрицио Салина из «Гепарда»-«Леопарда» Томази ди Лампедуза), снова бегом-бегом и в гостиницу – к завершающему комплексу своих упражнений и – поскорее! – к прохладному душу. Уффф – по-моему, я так разогрелся, что капли воды, соприкасаясь с раскаленной кожей, шипят и испаряются… А затем полежать, чтобы остыть и расслабиться, завернувшись в махровое, не индийское, полотенце, на кровати. Но хватит, голод дает о себе знать и поднимает с постели, и влечет вниз по лестнице в буфетную.
Однако хозяева придумали нечто поинтереснее: они усаживают меня в патио, в импровизированном садике, где устроили летнее кафе. Мой завтрак уже на столе, причем к моему скромному выбору они присовокупили и от своих щедрот: несколько баночек джема и меда, пару яблок и кусочек дыни – оранжевой и поэтому похожей скорее на тыкву из огорода моей бабушки. Но тонкий и ни с чем не сравнимый аромат выдает в ней все-таки именно дыню. «Ун каффе?» — «Си, ун капуччино, грацие». – «Грацие а лей! Да, ваши тосты и бриошь подогреваются и сейчас будут».
Черт побери, не выдерживаю в конце концов я. Ведь я сломал им весь распорядок, нарушил нормальное течение дня! Я своими прихотями и капризами отвлекаю их от текущих дел, которых немало: никого из них и никогда не видел я сидящими и плюющими в потолок. А они меня и в патио, и капуччино, и бриошь, да не дай Бог, не подогретую!..
Ну, как мне после этого всего относиться к этим чертовым итальянцам? А главное, как мне после этого относиться к своим «родным» русским?
Сегодня здесь, сидя за этим завтраком аристократа (без кавычек), я осознал главную цель и конечный пункт своей жизни. И сегодня же задумал когда-нибудь отразить все это в форме некоего литературного произведения: романа или повести, рассказа, дневника – не важно. Что получится!
Цель эта – уехать и осесть где-нибудь в итальянской глуши, маленьком провинциальном городке, если вообще не в деревне. И тихо, скромно жить там, наблюдая со стороны провинциальный быт. Лишь скромно, как бы по касательной, участвуя в нем.
Наблюдать со стороны, вникать, впитывать… Люди, их характеры, нравы, привычки, надежды, беды, помыслы… Их окружение – дома, дороги, утварь, одежда… И свои воспоминания, впечатления, мысли, в том числе и навеянные увиденным, услышанным, пережитым. Этот опыт начался у меня еще в Понте ди Леньо зимой этого года. И вот теперь, видимо, продолжается и даже идет дальше.
Я устал от стремительно несущегося времени, я хочу остановить его, а лучше — даже вернуться вспять.
Здесь, в итальянском захолустье, я и напишу, не только ручкой и чернилами, но и самим образом своей жизни, напишу я главную книгу своей жизни! “Una Vera Vita”…
Теперь только я начинаю по-настоящему жить!
Саронно, 9 июня 2009
Работу свою он таки и не бросил и так и не уехал в итальянскую глубинку. Не написал он и главную книгу своей жизни: ни “Una Vera Vita”, ни какую другую. Ну, так и что? На наш взгляд, это никак не обесценивает тех заметок из дневника нашего героя, что приведены выше!
НАВСТРЕЧУ
Они шли навстречу друг другу.
На все четыре стороны, насколько хватало глаз, расстилалось громадное поле, переливающееся волнами спелого жнивья. И лишь тропинка, соединяющая пути этих двоих.
Было раннее утро, даже жаворонок еще не проснулся. Мир был охвачен сном и безмолвствовал.
Кто они эти двое, что, единственными в мире, несли свою вахту?
Один был уже не молод, но все так же высок и статен. Гордо и высоко нес он свою венценосную голову; венцом ей служили длинные, вьющиеся, убеленные ранней сединой волосы, и еще, и еще какое-то неприметное глазу, но интуитивно улавливаемое легкое сияние, подобное нимбу вкруг головы от населяющих ее светлых мыслей. Все еще черная, лишь едва побитая сединой борода, с легкой горбинкой нос, орлиные глаза и темная, напоминающая рясу одежда – все это лишь подчеркивало эффект сияния, исходящего от чела путника. В руках у него был вечный символ мудрости – книга. Поступь его была тверда и уверенна.
Едва ли не полную противоположность ему являл собой идущий ему навстречу. Он был тускл и, случись ему быть в толпе, был бы неприметен – серая овца на фоне серого стада. Один из многих, быть может, чуть более развязен и суетлив. Возможно, от того, что был слегка навеселе: то ли со вчерашнего хмеля, то ли с сегодняшнего похмелья. И еще глаза, глаза мутные от неопределенности мыслей и чувств, от тупой и непреходящей злобы. Шел он нервной, подпрыгивающей и чуть вихляющей из стороны в сторону походкой. В руках? В руках он определенно что-то нес, но что – невозможно было различить: это что-то было обернуто то ли в полу рубахи, то ли в тряпку, то ли в газету.
Уже на приличном расстоянии было видно, по вихляющей походке, по скованности жестов, по напряженности всех членов этой не совсем суразной фигуры, а подойди он ближе, и по судорогой передернутому лицу, да, — уже издали было видно, что встреча с ним не предвещает ничего хорошего. Особенно в таком месте и в такой час.
Но гордый и сильный человек не привык сходить с раз выбранного пути, и он продолжал размеренно и твердо шествовать навстречу этому несуразному сгустку ненависти и тупой злобы. Более того, в какой-то момент ему показалось, что к этому моменту он шел всю свою жизнь, что это и есть тот момент истины, за которым сокрыта великая тайна. И это прибавило решимости нашему герою, еще большей твердости его шагу.
Мелкий же, по мере приближения к встречному, все больше чувствовал неуверенность в себе. Все больше сковывались его движения, все менее твердым становился шаг. Вихляние походки превратилось в шатание из стороны в сторону. Легкий озноб перешел в лихорадку. В момент встречи его уже просто трясло.
Человек на секунду приостановился и посмотрел на эту «тварь дрожащую». Ему вдруг стало бесконечно стыдно за весь род человеческий, и в очередной раз у него промелькнула крамольная для человека, а тем более для священнослужителя мысль о том, что не все люди сотворены Господом.
От стыда за эту свою, даже не мысль, а лишь тень мысли он несколько потупил взгляд, и в этот момент страшный по силе удар чего-то тяжелого и фатально острого обрушился на его голову.
«Се человек…» — последним всполохом промелькнуло у него в стремительно затухающем, практически сразу же затухшем под потоками крови мозгу.
Не устояв на коленях, Александр Мень, резко накренился на сторону и всем своим сразу погрузневшим телом ударился оземь.
Слепленное по образу и подобию исчадие ада, вложившее в этот удар всю тоску и томление своего земного существования, издало неопределенный гортанный звук и, отбросив в ближайшую межу топор, вихляя и подпрыгивая побежало прочь…
ODNOKLASSNIKI.RU
Человеческая жизнь – что твоя река. Река, в общем-то, живет одним сегодняшним днем – тем руслом и теми берегами, что проплывают мимо ее более или менее бурных вод в этот самый момент.
Более бурными воды бывают, конечно же, в молодости. Настолько бурными, что порой и самое русло может измениться. С возрастом же русло становится все более широким, а течение – все более плавным. Временами оно может и просто остановиться, и тогда водная гладь затягивается плотной ряской. Порастает осокой. Только что лягушки не поквакивают по вечерам. Редкий селезень пролетит и тут же скроется за горизонтом.
Отдельные запруды порождают затоны, в затонах появляются омуты, в омутах – нет, черти редко, а гораздо чаще в них стайками стоят все одни и те же мелкие заботы, кругами ходят блеклые рутинные хлопоты.
Это и хорошо, и плохо. Это — так.
Прошлые бурные годы, воспоминания о них нет-нет пробегут мелкой рябью по поверхности стоялого водоема, всколыхнут обычный покой мелководья, подобием волны набегут на берег. И только встреча одноклассников способна, пусть одномоментно, единоразово, возмутить речную пучину, нарушить покой мелкой заводи, ускорить бег «все той же воды», по вчерашнему выражению Кабашкина-Байматова.
Мне вспомнилась буря, да-да настоящая буря на таком всегда мирном и как бы сонном Днепре, бесчисленными плотинами давно уже превращенном в череду озер, если не болот, покрытом толщей тины и ряски. Более жалкое зрелище, чем в летние месяцы Днепр, являет, возможно, лишь Москва-река с ее полным набором элементов Таблицы Менделеева, но Москва-река это жалкая сточная канава по сравнению с Днепром.
Так вот, лишь один-единственный раз Днепр при мне явил свой дикий норов. И мне случилось оказаться в самом фарватере его (вот уж где настоящий Demon’s Eye, Маша!), в моторной лодке с заглохшим мотором, с маленьким ребенком на руках. В полной мгле. При беспорядочно накатывавших то с одной, то с другой стороны огромных-преогромных (вижу ироничную кабашкинскую ухмылку!) волнах. Под порывами жуть как завывавшего ветра и под водопадами разверзшихся хлябей…
Воды под нами тоже то и дело разверзались, и мы проваливались куда-то в пустоту. Потоки воды сверху, напротив, казались настоящей рекой, водопадом, стремившимся то и дело накрыть нас с головой. Что внизу – вода? пустота? Что сверху? Мы абсолютно потеряли ориентацию в пространстве…
Стоп, стоп… Фантазия завела меня уж слишком далеко! Наша вчерашняя встреча, конечно же, не идет ни в какое сравнение с этим ужасным природным катаклизмом! Хотя местами, по своему эмоциональному накалу, она отчасти напоминала некоторые бурные страницы нашей жизни. Давая возможность, пусть мысленно, вновь их пережить. Заставляя быстрее биться сердце… Разгоняя, как в центрифуге, обычно столь мерно текущую кровь.
И не вино было причиной раскрасневшихся лиц и повышенной тональности голосов, взрывов смеха, а порой, и наоборот, наступавшего безмолвия. Как раз последнее-то более всего и выдавало внутреннее напряжение и судорожную работу памяти и чувства. А еще — порою сбивчивая и нестройная речь профессоров и педагогов, способных в иных условиях без единой заминки читать многочасовые лекции студентам по своим далеко не простым предметам.
… Расходились заполночь. Но, уверен, и ночь у многих была неспокойной, даже если кому и удавалось сразу заснуть. Воспоминания отблесками далеких молний вторгались в темные подземелья сна. Глухие отзвуки былых громов, странным образом не нарушавших мирного сна домочадцев, разрывали тишину московских квартир. Волны воспоминаний все накатывали и накатывали на казалось бы уже ничем не пробиваемые души, смывая наносы душевной лени, ханжества, равнодушия… Обнажая чистые, девственные подосновы.
Во сне все мы вновь становились детьми – робкими, любопытными, ищущими и сомневающимися, жадными до нового опыта и то и дело ошибающимися; кающимися в этих своих ошибках и вновь дерзновенными…
Утро расставило все на свои места. Едва раскрыв глаза и увидев вокруг себя привычную обстановку, знакомые лица, мы вновь обрели уверенность – все хорошо, наша лодка вновь прибилась к твердому берегу. Время вернулось на круги своя. А жизнь, жизнь вновь вошла в свое привычное русло, потекла своим обычным чередом.
И лишь временами покачивающаяся, чуть вразвалочку походка до обеда нет-нет, да выдаст последствия эмоциональной качки, пережитой прошедшей ночью…
Липки, 04 апреля 2010 г.
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вчера я совершенно неожиданно, впервые за много лет проспал Пасхальную службу. В предыдущие годы не один, так другой сын, не они, так кто-нибудь из знакомых обязательно вытаскивал меня из дому и вез в церковь. Да, к сожалению, с некоторых пор это перестало быть для меня внутренней потребностью, поэтому стал необходим внешний толчок.
И вот теперь – верх кощунства: вообще проспал! Приехали на дачу уже вечером, поужинали, в очередной раз убедился в том, что телевидение — для умственно отсталых, поднялся в Митину комнату, прилег с пачкой непрочитанных за неделю газет и «Изобретением любви» Т.Стоппарда, предвкушая спокойное двухчасовое чтение перед поездкой в церковь. Но прочитал пару заметок и… поминай как звали.
Проснулся уже под утро. Пошел, почистил зубы, принял душ, перебрался на кровать к жене, проворочался какое-то время, мешая ей спать, и вновь вернулся в комнату сына. По-прежнему не спалось. Взялся за Стоппарда, и тот скрасил мне какое-то время, отвлек от бессонницы. При первых же признаках сна уткнулся в подушку и в какой-то полудреме прокрутился до дневного света.
Свет оказался более чем светом. Солнце, возможно, впервые за долгую, затяжную зиму вновь почувствовало себя «в силах». Это ощущалось даже через плотно задернутые занавески.
«Воистину Пасха, — подумалось мне, и вдруг стало как-то не по себе из-за своей вчерашней слабости. Но тут другой голос: «Ну, съездил бы, ну и что? Очередное разочарование…» Да, действительно, в последнее время посещение вечерней службы будь-то на Рождество, будь-то на Пасху неизменно оставляло чувство разочарования. Каждый раз одно и то же: ожидание чуда, приподнятое настроение, предвкушение чего-то большого и чистого, но все это до того, как оказался в церкви. В церкви же масса народа, духота, чад от свечей и паникадил, блеющие и какие-то чересчур формальные голоса священнослужителей… И все они, эти священники, как один – какого-то сугубо казенного, какого-то партикулярного вида: не спасает ни злато, ни серебро, ни самоцветы там разные. Все это в каком-то неуемном количестве, все блестит и сверкает. «О каком там еще возврате ценностей церкви говорят? И так аж глазам больно! Если бы все дело было только в этом!»
Невнятность церемониала, невнятность речитатива священника с какими-то ненужными подвываниями, невнятность хорового пения (порой действительно неплохого, и это единственное, что в состоянии тронуть), невнятность всего происходящего (другие, отдают ли они себе в этом отчет, чувствуют, ощущают?) – все это постепенно наполняет тебя чувством разочарования и скуки. Служба не обогащает тебя, а, похоже, напротив – иссушает свою душу, выпивает из нее и те последние капли святости, что накопились там в ожидании Светлого Праздника.
«Почему же, почему – это я уже опять, лежа в Митиной комнате, — при всей грандиозности этого праздника, при всем его глубочайшем смысле, при всем космизме самой идеи и при всем моем, в общем-то неплохом воображении, почему из года в год не происходит чуда? Почему не проникаешься вполне ощущением истинного величия происходящего? Почему все это не потрясает тебя, не очищает, не возрождает к новой жизни? А ведь по идее так оно и задумывалось… Внешние ли это факторы, что мешают тебе до конца осознать и почувствовать? Внутренние ли?..»
С этими невеселыми мыслями полежал я еще некоторое время, затем встал и пошел готовить кофе: себе и жене.
Когда я с чашкой кофе вышел, впервые за зиму, на веранду, я еще ничего не понял. Очистившись как-то вдруг, разом, за прошедшую неделю от снега, лужайка перед домом – конечно же, да, производила впечатление: еще неделю назад снегу тут было по колено, и землю с ее жухлой травой я не чаял увидеть еще как минимум пару недель. Сейчас же снег бесследно исчез, настолько бесследно, что даже талой воды не осталось. Но это лишь немного удивило меня.
Без особого предчувствия, но уже в полной мере наслаждаясь свежим и чистым весенним воздухом, жадно глотая его, я вышел за ворота дома и пошел по дороге к лесу. Здесь величавая поступь весны чувствовалась уже гораздо сильнее. Что там наша маленькая лужайка перед домом — все поле за забором практически полностью очистилось от белого савана. Масштабы происшедшей здесь на неделе битвы можно было себе только представить. По тем количествам белых полчищ, что стояли здесь еще в прошлые выходные (казалось, они сверхнадежно защищены ледяным панцирем – результатом дневной оттепели и ночных морозов). По тем пластам раскуроченной черной земли, что была вспахана еще по осени, но казалось, вздыбилась только теперь в ходе битвы двух воинств. По потокам струящихся отовсюду вешних вод. «Это не вода, это кровь, раз это действительно поле брани», — подумалось мне. По останкам «белой гвардии», разбросанным то здесь, то там, в основном по окраине поля. Завершали картину битвы, одновременно и дополняя ее, стаи воронья, кружившего над и копошившегося в поле.
И только оказавшись в лесу, я понял, что битва далеко еще не окончена. Именно здесь, в тени вековых берез и елей, стал до конца понятен масштаб противостояния. Зима прочно засела в лесу и, похоже, не собиралась сдавать своих позиций. Схватка здесь ожидалась не на жизнь, а на смерть. Здесь даже уже не весна с зимою сошлись, а скорее зима и лето. Придорожные проталины и там, у края болотца – там, не верилось глазам, уже густо колосилась зеленая-презеленая трава – подобие осоки. Неужели она не умирала зимой? Неужели она успела так вырасти под снегом? Абсолютно не сочетаемая комбинация зеленого и белого цветов. Нет, елки, они не в счет: они совсем другого оттенка зеленого цвета! А тут изумрудный зеленый цвет, бирюза…
Здесь же, в лесу, столкновение двух абсолютно несовместимых запахов: запаха снега и запаха едва оттаявшей земли с примесью запаха осеннего лиственного перегноя.
В воздухе тоже ни на мгновенье не прекращается борьба – борьба уже по-летнему теплых и еще по-зимнему холодных потоков воздуха: не успел ты расстегнуться, как тут же спешишь застегнуться опять – не ровен час, простудишься! Нет, бог с ним, лучше расстегнусь!
Игра света и теней способна поразить самое небогатое воображение! Белое покрывало снега, посеревшее от опавшей хвои, но все еще плотное и объемное, как стрелами, утыкано бесчисленным количеством солнечных лучей. Тени от стволов и ветвей пытаются парировать их: ты как будто бы слышишь перестук и перезвон этих только глазу видимых копий, мечей и топоров.
Видно, что снег уже не тот, что картинах Левитана и Грабаря – не мартовский. Там он искрился и играл бесконечным множеством оттенков и цветов; там он царил, здесь же — уже спокойных пастельных тонов: похоже, смирился вполне со своею судьбой.
Сквозь потемневшие, напитавшиеся водой стволы деревьев и на черном фоне их просматривается синее-пресинее небо. «Как «синеющий кристалл» у Вячеслава Иванова» – проносится в мозгу. Эта же синева ответно подмаргивает и из придорожных луж и канав. Ни корочки льда в них, а неделю назад – как похрустывал ледок под ногами, заглушая осторожный еще пересвист пичуг. Сегодня они порядком осмелели, а завтра, — ты уже предчувствуешь это, — весь лес наполнится этим мощных хоралом во имя возрождающейся жизни, во имя Весны! При слове «возрождающейся» сердце, и без того учащенно бившееся в предчувствии нарастающего чуда природы, сердце начинает бешено колотиться, едва-едва не вырываться из груди. Кровь, как в синхрофазотроне, нет, как в коллайдере (так современнее!), разгоняется до невозможных, до совершенно фантастических скоростей. Закипает в жилах, стучит в висках, закладывает уши. Мозг работает как часы, концентрируясь только на самом главном. Сознание проясняется до кристальной ясности и чистоты.
Ты видишь, ты осознаешь, свидетелем чего ты явился. Возможно ли, возможно ли это? Ведь столько лет… Ведь столько раз… Да, видел… Да, слышал… Да, понимал… Но впервые в таком масштабе, с таком смысле, до такой глубины!..
Вот оно, истинное чудо Воскресенья! Вот оно, в чистом, не замутненном ни сознанием, ни внешними явлениями жизни виде! Вот оно то, что пытаются столь нелепо и столь ходульно воспроизвести в церкви! Какая наивность и какая глупая, напыщенная человеческая самоуверенность! Огонь, самовозгорающийся огонь… Какая чушь и какая мелочь, а неизменно привлекает внимание людей. На деле лишь отвлекает от главного. Какова степень человеческой слепоты: верить в какое-то чудо самовозгорания и не видеть истинного чуда, которое в то же время в невиданном, поистине вселенском масштабе разворачивается буквально повсюду кругом!
Господи, спасибо, что просветил, спасибо, что надоумил!.. Христос, Христос воскресе! И природа всем своим существом, всем видом и проявлением своим… вплоть до самой маленькой веточки с капелькой влаги на ней, этой слезинкой скромной радости, радостно вторит: «Воистину воскресе!»
Москва, 8 мая 2010
ПРОБУЖДЕНИЕ КО СНУ
Где был дух мой, если к реальности бытия возвращаюсь я через Парнас, через поэтические кущи, где что ни лощина – кладезь, что ни пригорок – вершина жанра. Тектоническими пластами, мощные и недвижные, лежат дактили и гекзаметры античных авторов, начиная с Гомера и кончая Проперцием. Через едва заметные трещинки проступают на поверхности ностальгические классические вирши поэтов XVIII века: интуитивно угадываю Майкова, Хаусмена, Поупа… Отражением в веках, лучом, пришедшим к нам из глубины столетий, видятся мне переводы Лозинского, Гнедича, Апта, Мережковского… Они близки мне по духу, по образу мысли и, главное, – чувств, что охватывают тебя при столкновении с миром великих, с этим неугасимым светом – источником вдохновения, который не можешь, не вправе не нести людям.
Дант и Вергилий стоят на границе этих тектонических масс. Их взгляд устремлен куда-то вглубь: в пропастях, видимых только им, они пытаются прозреть сияющие вершины…
Лирика Возрождения, — ясная и невесомая, — эолами и зефирами скользит по поверхности земли, шуршит в изумрудной мураве и светлой зелени крон. Я чувствую скорое приближение дня. Просыпания. К жизни и свету.
Далеким воспоминанием о ночных страхах и сомнениях – не надуманны ли они? – отдают строки Микеланджело, Тассо, того же Петрарки.
Нет, мир, природа, я сам – все мы идем к торжеству правды и света. Под звон литавр и звуки труб. Будущее – прекрасно! Поэтому столь звонки и торжественны строфы од и панегириков: они подстраиваются и стараются не затеряться в звуках этой грохочущей и зовущей меди.
Но что это? Из самой гущи этого трамтарарама вдруг пробивается тонкий голос то ли рожка, то ли флейты. Нет, это — лютня, и несет она с собой не пасторальные образы и картины, а уводит в тенистые парки и сады, где под сенью вековых деревьев, под журчание родников и ручейков, вызревают глубочайшие и интимнейшие чувства поэтов-лириков XVII и XVIII веков.
Все мыслимые и немыслимые подвиги во славу дам сердца уже совершены. Герои — кто погиб, кто состарился, а их потомки, как водится, совсем не похожи на них. Они грустны и задумчивы. Их не влекут более горячие пески Палестины: солнечные лучи способны растопить их ледяные сердца. От солнца и света они прячутся в тенистых аллеях и сумрачных гротах. Страсть не обжигает более их сердец. Они не любят, а страдают, не живут, а умирают; их стихи — сплошные вздохи и плохо сдерживаемые всхлипывания.
И вдруг… Ничто не предвещало… Природа готовилась тихо отойти и умереть… Но вдруг – очистительный ураган, буря… Байрон! Мир потрясен до основания. Повалены вековые деревья, реки вышли из берегов, в небо вознеслись горные вершины… Мир вновь наполнился первородной жизненной энергией и силой. Воля творит чудеса и управляет миром. Мораль и нравственность отошли на второй план. Се грядет человек во славе своей! Пали и временные устои; из-под спуда столетий к жизни возвращаются классические формы, способные как никакие другие выразить суть происходящих грандиозных явлений и событий. Отлить их в бронзе и увековечить, теперь уже навсегда!
Но гора родила мышь! В лабиринтах салонов и академий очень скоро увязла динамика байроновского пафоса. Ударная волна от этого взрыва, на деле оказавшегося лишь хлопушкой, прошла по всем европейским закоулкам, расчистила завалы, открыла новые пространства и… сошла на нет.
Кто-то вздохнул по эпохе, предшествовавшей Рафаэлю. Кто-то застыл в камне вечной классики. Кто-то, и их было большинство, впал в глубокую депрессию: от лелеемых, но так и не сбывшихся надежд. Леопарди, Лермонтов, Верлен, Браунинг…
Ураган не только учинил бурелом в рощах и садах предыдущей эпохи; он сорвал и разметал целый культурный пласт ее, и на выступивших камнях боли и отчаяния густо взошла новая поросль – цветы зла. В распространяемом ими дурмане мир приобрел другие, искаженные формы. Короткий период болезненной эйфории сменился упадком сил и упадком духа. Сон разума породил экзотических монстров и чудищ: от символических и декадентских, в основном старого, классического пошиба до доселе не виданных и воображению не поддающихся — футуристических и конструктивистских, навеянных особенностями нового индустриального века. Якобсен, Рильке, Верхарн – каким анахронизмом выглядят они и их поэзия на фоне летящего в будущее локомотива!..
Научно-технических прогресс – вот новый выход, который узрело человечество, окончательно запутавшись и заплутав в лабиринтах мыслей и чувств предшествующих столетий. Старым богам в этом новом блистающем мире не нашлось места. Открывалась совершенно новая (в который уже раз!) эра, где сам человек должен был стать Богом. Природа же… Что ж Природа? Природу предстояло взнуздать и запрячь в колесницу Нового века… А если нужно, то и загнать в этой беспрецедентной по масштабу и уровню скоростей гонке всех веков и народов.
И вот, сегодня мы стоим у финального этапа этой гонки. Растерянные и недоумевающие… Стальные кони прогресса перепахали всю землю: от горизонта до горизонта. Пыль стоит столбом и не скоро еще осядет. Источники загажены и отравлены. Небеса более не видны: они рухнули на землю и смешались с землей. Горизонты сошлись и не желают больше расходиться.
Загнанные вконец мы окончательно потеряли ориентацию: откуда мы бежали? где оказались? В пылу гонки мы не смотрели по сторонам, не обращали внимания и не запоминали ориентиры. Ориентир был один: вперед, вперед, вперед… Но в какой-то момент, похоже, то, что первоначально было впереди, оказалось сначала справа, затем слева, затем как-то по диагонали… пока и вовсе не оказалось позади… В какой момент это произошло? Мы этого не знаем. Мы вообще, как это ни странно, знаем сейчас гораздо меньше, чем знали в начале пути.
Поэзии больше нет. Ее не стало, как еще раньше не стало Бога. Лишь жалкое потренькивание, то здесь, то там. Это порванные струны эола силятся вспомнить утраченные звуки. Отдельные, разрозненные строфы и рифмы грубо втоптаны в землю или, как после взрыва, свисают со стволов и ветвей деревьев, с обломков дорических колонн. С губ несчастного нечестивца слетают бессмысленные звуки, напоминающие «авангардную» «поэзию» (хватит ли кавычек? весь современный мир превратился в одни сплошные кавычки!) начала ХХ века, века хлебниковых и крученых: «Буд лет пром, кабы дубы невзмет // Буди невпроглядь веди»…
«Бум, бум» — глухо звучит подобие какого-то немыслимого колокола. Скрипит то ли половица, то ли ствол расщепленного дерева. Ветропросвист несуществующих более аэропланов и гулкое молчание навсегда остановившихся машин изредка прерывается диким бессмысленным хохотом обезумевшей толпы – сытых и довольных, но совершенно безумных…
Наконец, в холодном поту, я окончательно просыпаюсь, оглядываюсь по сторонам и к своему удивлению нахожу себя в уюте и комфорте своей привычной спальни. Невольный вздох облегчения срывается с моих губ, а уже первые строчки Вл.Соловьева:
«Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?»
— окончательно развеивают следы ночного наваждения…
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
РУКОПИСЬ
Где-то, в темном, замшелом углу, куда вряд ли когда-нибудь проникнет взор человека, куда вряд ли дотянется его рука, лежит ветхая рукопись. Четким, размеренным подчерком на ней выведено:
«Я начну за упокой, но кончу, уверяю вас, за здравие…
Я думаю, человек, отдавший Богу душу, в тот момент, когда мы здесь на земле трагично заламываем руки и проливаем горячие слезы, в тот же самый момент преставившийся, оказавшись уже в другом измерении, исполнен тихой и светлой радости или, напротив, — в зависимости от темперамента человека — прыгает до… Есть ли там потолок? Можно ли вообще там прыгать? В любом случае он испытывает чувство глубочайшего удовлетворения.
Еще минуту назад он испытывал дикий, животный страх: жизнь, люди, инстинкт от самого рождения учили его испытывать именно это — перед лицом неизбежного, перед лицом смерти.
Но сейчас он уже смеется и над нами, оставшимися в плену заблуждений, и над самим собой, прежним, именно за этот свой, только что пережитый им страх.
В чем же причина его столь глубокого и неожиданного для нас удовлетворения? – Наверное, в чувстве той безграничной свободы, которое внезапно его охватило и которого он никогда не испытывал при жизни.
Действительно, задайся мы целью проанализировать свою жизнь на предмет того, испытывали ли мы когда-нибудь чувство настоящей свободы, мы будем вынуждены признать, что такие моменты, если и были, то крайне редко, причем, как правило, и они были все же отягощены какими-то, внешними, внутренними ли, страхами, волнениями, сомнениями, нерешительностью… Тот же, кому было все же дано испытать чувство свободы и кто отдался ему сполна, как правило, бывали за это жестоко биты. Это отравляло испытанное чувство и навсегда отвращало от желания попробовать испытать его вновь.
Между тем, позволю себе предположить: смысл жизни, столь искомый всеми нами, заключается именно в этом – в обретении свободы. Все же остальное, включая власть, деньги, славу и т.д. является не более чем средством обретения свободы.
Возможно, только в самом раннем детстве человек наслаждается чувством относительно полной свободы. Да и то, кое-кто из вас улыбнется при этих словах. В дальнейшем же человек все больше и больше, как муха в паутине, запутывается в бесконечной череде дел, обязанностей и обстоятельств: дома, на работе, перед всеми и вся, начиная с малых детей и кончая государством и его бесконечными институтами. Причем чем старше становишься, тем больше пут, тем крепче они, а что самое интересное – удачно все-таки это сравнение с паутиной! — чем больше и чем активнее предпринимаешь усилий по высвобождению, тем все больше запутываешься, и надежда на высвобождение становится все призрачнее.
Кончается тем, что человек сам себе уже не принадлежит. Как щепку его бросает и крутит бесконечный водоворот дел, больших и малых. Лишь успевай увертываться от летящих навстречу тебе проблем и неприятностей! Какая уж тут внутренняя жизнь и сосредоточенность?
Самое страшное, что даже когда востребованность человека с годами, с возрастом снижается, то есть снижается внешняя компонента, он начинает паниковать и уже сам выдумывает себе дела и обязанности. То есть смысл жизни человек привыкает усматривать именно в этом – в постоянной суете, и при выявлении дефицита ее человек ощущает дискомфорт и всеми силами стремится как можно скорее сократить этот дефицит. В то время как истинный смысл жизни, напомним, в обратном – в свободе!
Чтобы понять это, нужны годы и годы напряженной учебы, сначала у профессоров, а потом у жизни. И всегда – у книги! Учеба наполняет внутренние «меха» человека изысканнейшим напитком — знанием. В какой-то момент просвещенному оказывается все менее и менее необходимым поиск смысла вовне; он ищет и находит его в себе. С этого момента начинается обретение человеком и свободы – внутренней и внешней…»
На этом рукопись, явно неоконченная, обрывается. В качестве своеобразного подведения черты, эпилога, внизу, под текстом, крупными и решительными буквами выведено:
«Не труд — arbeit, а творчество macht frei – делают человека
по-настоящему свободным!»
ВСПОМИНАЯ АНДРЕЕВА
Сегодня утром мне вспомнился рассказ Леонида Андреева «Петька на даче» — один из самых моих любимых у него, а для него самого, для Андреева, наверное, наименее характерных.
Речь там о несчастном забитом ребенке, отданном матерью-крестьянкой в услужение-обучение к городскому парикмахеру. Мало того, что условия города, ужасные уже сами по себе, так еще и место такое – парикмахерская, хуже может быть только больница.
Прямым кандидатом в нее, в больницу, и является Петька, к тому же и от рождения, похоже, не совсем здоровый. В городе он не столько растет и развивается, сколько медленно чахнет и умирает. Не только в физическом, но и в интеллектуальном отношении.
Но вот как-то мать договаривается с хозяином о том, чтобы взять мальчика на несколько дней к себе, в деревню, и хозяин отпускает.
Здесь для Петьки по-настоящему открывается мир во всей своей прелести и красоте, а не через ту призму занюханной, вонючей парикмахерской, через которую он привык мир видеть. Лес, поле, грибы, речка, рыбалка, друзья – небеса… И вслед за пространством точно так же разворачивается и душа мальчугана, расправляются плечи и поднимается голова… Дни наполняются планами, одни грандиознее других, а жизнь – смыслом.
Преображение, поистине чудесное преображение, налицо. Но Андреев был бы не Андреевым… Наступает день, когда мать объявляет Петьке, что завтра ему возвращаться в город. Реакция мальчугана… У меня при одном воспоминании подступает комок к горлу. Уж лучше бы, кажется, она его и не вывозила. Отныне его жизнь в городе будет вдвойне тусклой и унылой.
Этот немой вопрос в глазах мальчугана «Зачем?» навсегда, кажется, остался и в моей голове, в моей памяти, и время от времени всплывает в ней. Причем, как правило, здесь, на даче. Не на отдыхе где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах, не в Испании и даже не в Италии – отовсюду я как раз возвращаюсь домой с удовольствием, а именно на даче.
И сегодня именно такой день. Мы позволили себе поспать лишку, мы выпили по чашечке кофе, мы послушали свою любимую музыку, и только после этого я решился подойти к окну. По косвенным признакам я уже догадывался о том чуде, что ожидает меня за окном. Но я где-то сознательно оттягивал этот момент. Увиденное превзошло все мои ожидания.
«Великолепными коврами…»
Этот великий плагиатор Пушкин – он украл у меня эти строки! Но не это настроение.
Совершенство! Если и существует совершенство на свете, то вот оно! Ни малейшего изъяна, ни малейшего огреха… Наш извращенный ум при встрече с прекрасным первым делом стремится уцепиться за какой-то изъян. В противном случае… Он так боится скатиться в воронку райского наслаждения. Не Бог, сам человек заказал себе путь в Рай. Спроси его «Зачем?» — он, конечно же, будет отрицать, что это он, он найдет массу причин и обстоятельств, он, в конце концов, доберется и до Бога. Но и с ножом у горла не признает, что сам всему причина. Что даже тогда, когда и мог бы организовать все по-другому, организовал все именно так. Далеко не самым лучшим образом.
Все это в одну секунду проносится у меня в голове. Я возбужден, но успокаиваю себя мыслью: еще целый день этой сказки у меня впереди. Сейчас я натяну валенки, наброшу шубу, и уже не из-за окна буду наблюдать, а в прямом смысле погружусь в это великолепие. Я пойду по аллее в лес, все глубже и глубже, и только снег будет поскрипывать у меня под ногами, да, может быть, иная ветка треснет под тяжестью слежавшегося снега.
А еще я возьму фотоаппарат и постараюсь запечатлеть все эти чудесные мгновения – уловить их… Знаю, что все это бесполезно. Завтра я выведу эти снимки на компьютер, и ужасное разочарование посетит меня. Да, картинка останется, и она, по-прежнему будет приятна для глаз, но в душе она уже мало что затронет, связь с душой, практически, прервется. Холодное механическое копирование. Фотографические успехи крайне редки. Мало кто понимает, но хорошим фотографом куда сложнее стать, чем хорошим художником. Все-таки «колонок» и фотообъектив – это далеко не одно и то же. Равно как душа и какой-нибудь светофильтр. Образ, пропущенный через душу художника, становится самостоятельным. «ПИ» начинает жить уже своей жизнью. Много ли образов природы сохранилось у нас в памяти по увиденным фотографиям? Зато сохранившихся под впечатлением живописных полотен – сколько угодно!
Нет, не буду, пожалуй, фотографировать!
А встану на лыжи и на час-другой выпаду из реальной жизни… исчезну из нее, уйду в другое измерение.
Там все другое, все не похожее на окружающую нас обычную жизнь. Там скорость и темп, но там же и остановившееся время. Ты бьешься, выбиваешься из сил, задыхаешься, едва не валишься с ног… Сердце бешено колотится, кровь стучит в висках, руки и ноги работают как отдельно от тебя существующие механические рычаги, ты их почти не чувствуешь, почти не ощущаешь своими… И все это вне времени, — время остановилось, — все это в одном, наконец-то, ухваченном тобою мгновении. В то привычное время, — жестокое и неумолимое, — ты вернешься позже, когда у дома снимешь лыжи и весь от бороды до пят, заснеженный и заиненный, ввалишься в прихожую. Здесь же, в лесу, ты вполне определенно осознаешь себя в другом измерении и, несмотря на проносящиеся мимо тебя сосны, кусты, сугробы — пространство, ты реально ощущаешь вечность. Ты преодолел наказание, назначенное тебе Богом, ты сбросил навешенные Им на тебя вериги – пространство и время. Ты понял, что это возможно. И это понимание останется в тебе: и как цель, которой не нужно бояться, и как оправдание серости и несовершенства здешнего бытия.
Полуденный сон окончательно вернет тебя к обычной жизни. Накопившиеся за неделю непрочитанные газеты вновь погрузят в «суету сует». Рано опустившиеся сумерки скроют от глаз великолепие окружающей природы. Мысли о завтрашнем дне и работе, об обязанностях и предстоящих делах окончательно вернут тебя к действительности.
Колом утром вставший в голове вопрос «Зачем?» постепенно снивелируется и превратится в маленький низенький холмик на фоне плоской, обыденной, но привычной жизни. Ты заведешь мотор и без труда преодолеешь этот маленький бугорок при выезде за ворота дачи.
До свидания, Петька! Оставайся здесь, катайся на лыжах, играй в снежки, строй крепости и несись в салазках с крутой горки в сугроб… Нагуливай аппетит, крепко спи… Наслаждайся красотой окружающего тебя мира!
КОМАНДИРОВАННЫЕ
Он возвращался из командировки, которая заняла у него не два, а три дня – на день больше, чем планировалось. «На целый день жизни», — невесело подумалось ему. При этом результатами поездки нельзя было быть недовольным, и он представил себе, как был бы рад, случись это лет 10-15 назад, да даже еще 5! Много переменилось за эти последние годы в его отношении к работе…
Наискосок от него за удобным столиком в центре вагона сидели две симпатичные девушки и два молодых человека, гораздо более блеклого вида, – и те и другие из одной и той же компании, в смысле – фирмы. Тоже возвращавшиеся из командировки. Пока были свободные места, к ним захаживали из соседних вагонов другие сотрудники. Все они были молоды и оживленны. Судя по всему, неплохо поработали и, уж точно, хорошо отдохнули и развеялись вдали от обычной рутины, да, чего уж там, и от семьи, если кто из них был женат. Девушки же точно были незамужние.
Не обратить внимания на этих молодых и довольных собой и своей жизнью людей было невозможно. Вот только прислушиваться к их разговорам ему не очень-то хотелось. Во-первых, было и так ясно, о чем они говорили и по поводу чего шутили; во-вторых, детали, наоборот, могли разрушить общее впечатление от внешнего вида этой симпатичной группы молодых людей, идущих тебе на смену – успешных и жизнерадостных. И все же он старался не очень-то отвлекаться от целого вороха газет и журнальных вырезок, что он, как обычно, прихватил с собой в командировку, но так и не осилил ни по дороге туда, ни вечерами в гостинице. Да и не было у него толком этих свободных вечеров. Три дня подряд – деловые ужины и пустые застольные беседы.
Среди прочих газетных вырезок было интервью с женой А.Солжницына, Натальей Дмитриевной, в котором она вспоминала последние годы жизни, прожитые с мужем-писателем в Троице-Лыково. Надо сказать, годы эти мало чем отличались от жизни в Вермонте, а еще раньше – в Европе. Работа, работа, работа… Все посвящено работе: и жизнь собственная, и жизнь семьи – жены и детей. Переживания по поводу каждого отвлечения от главного труда своей жизни – писательства. Все, все этому посвящено, все принесено в жертву, и он так понял, что даже дети…
Очередной взрыв смеха в соседнем ряду. Это к девушкам, только что скучавшим за перелистыванием бесконечного гламура в очередной раз пришли коллеги – молодые люди. В течение 10-15 минут повторилась прежняя сцена оживленной беседы. Затем она вновь как-то сошла на нет, и продолжилось перелистывание страниц и обмен впечатлениями по поводу просматриваемого. Коллеги же – один задремал, другой уставился в монитор телевизора, получая явное удовольствие от пустого-препустого фильма из числа тех, что обычно прокручивают в поезде.
Солженицын же в интервью с Натальей Дмитриевной все так же неутомим: изо дня в день работа, работа, работа… Ночью, иной раз даже бессонница из-за страха не заснуть, не выспаться, потерять для работы следующий день… И все из-за боязни не успеть: внутри писателя так и сидел застарелый онкологический недуг, который мог активизироваться в любой момент. Уникальнейшая судьба! Человек не живет, а выполняет некий долг, и выполнению этого долга посвящено все. Схимник, монах, затворник. Судьба вывела его из лагеря на свободу… на самом деле – на поселение, имя которой «страна». Отсюда – в свободный, теперь уже по-настоящему свободный мир, сначала в Европу, где свобода зародилась, затем в Штаты, где свобода достигла своего исторического апогея… Но этот борец за свободу на деле как будто бы и не нуждался в ней. На просторах огромной страны он замыкается в небольшом лесном краю, да и край-то ему неинтересен, на деле он замыкается в четырех стенах… Да и в России, по возвращении, – то же самое.
Он живет другими понятиями – отличными от наших с вами. Его путь не влево и не вправо, и даже не вверх и не вниз, а внутрь, в самую суть… Человека, общества, истории… Себя.
А какова глубина душ этих молодых людей, что вновь оживились и обсуждают предстоящий «корпоратив» на следующей неделе? Нужна ли вообще глубина тому, кто по жизни является потребителем? Есть ли у него время на заглядывание внутрь себя, внутрь своей души? Есть ли желание туда заглянуть? Позволяет ли это сделать страх? Страх, что заглянешь туда, а там… пустота!
Установка на внешний успех, напористое обладание и даже эдакое брутальное суперменство, – читал он теперь уже у Дм.Быкова в статье «Возвращение Домбровского». Действительно, вот этот заштатный плейбой, что второй или третий раз заходит из соседнего вагона пококетничать. Эти слова прямо-таки о нем. Уж он-то точно, своего, да и не только своего — вон у него обручальное кольцо на пальце! – ни за что не упустит. И при этом девушки к нему явно более благоволят, чем к остальным, хотя время от времени тоже посматривают на кольцо, да и пошучивают по этому поводу. Но ведь и они из той же породы, породы добивающихся успеха любыми средствами. «Будь успешен! Бери от жизни все!» – это уже опять Дм.Быков. – «Покоряй, завоевывай, реализуйся!» И чуть дальше: «… тяга к доминированию. Воздвигнись! Преобладай!»
Да, пожалуй, это ключевой момент переживаемого нами момента истории. Только неделю назад, после очередной словесной перепалки с сыном, он говорил жене, что дискуссии с молодежью, особенно чего-то добившейся в жизни, бесполезны. «Мы говорим на разных языках и молимся разным богам», – говорил он. «То есть мы, хотелось бы думать, – Богу, а они – идолу, идолу успеха, доминирования, преобладания. В принципе, не это плохо, а плохо то, что в шкале современных ценностей морали, похоже, отводится одно из самых последних мест. Если отводится вообще. А еще плохо то, что под успехом понимаются ценности чисто материального порядка, а о духовных – чуть ли не неприличным становится даже упоминать. На тебя смотрят, как если бы в 20-е годы в кругу пионеров или комсомольцев ты вдруг заговорил о Боге, о Нагорной проповеди, о блаженстве нищих духом…» Этого последнего он, кстати, и сам никогда до конца не понимал. Ведь вот же они, эти нищие духом – на расстоянии вытянутой руки… Будущие счастливые обладатели Царства Земного. Это не вызывает сомнения. А также и Небесного? Почему? И что даст им насыщение? Где? Когда? Домбровский точно не даст. В своей последней из напечатанных и не совсем понятно, откуда появившейся книге «Рождение мыши», которой формально и посвящена статья Дм.Быкова, Домбровский как раз развенчивает ту «гору» успехов, привилегий и денег, к которой были устремлены все помысли и желания сынов и дочерей «строителей коммунизма». Ибо гора эта у Домбровского, в конечном счете, рождает «мышь».
«А ведь это действительно так», – подумалось ему. Достигнув, в плане материальном, практически всего, о чем можно было мечтать, он только теперь осознал истинную цену всему этому. Цена, конечно, высока, ибо определяет положение в обществе. Престиж, репутацию, авторитет… Всем этим нельзя пренебрегать. Под «истинной ценой» – имелось в виду в сравнении с духовными ценностями, что монблановскими вершинами уходят куда-то в поднебесье, и мы только мысленно можем предположить их истинную красоту и блеск. Или отблески их рассмотреть в творениях великих художников, музыкантов, поэтов. Об одном из таких поэтов ему поведал все тот же Дм.Быков.
Эмили Дикинсон. Нет, этот Быков определенно разовьет у него комплекс неполноценности! Первый раз он слышал это имя, в то время как, по утверждению Быкова, это «самый издаваемый, изученный, переводимый и цитируемый американский поэт, далеко обогнавший по этой части Уитмена, Т.С.Элиота и даже (нет, без шпилек он определенно не может, этот Быков!) Джима Моррисона». Такое вот, по Быкову, американское «всё», подобное нашему Пушкину, а даже наш герой, прошедший курс английской и американской литературы, – правда, еще при социализме, – о ней, об этой Дикинсон, даже и не слышал! Несколько успокоило его только то, что и в Америке-то о ней узнали лишь 100 лет спустя после смерти. Эмили Дикинсон прожила тихую, недолгую жизнь где-то в Богом забытом Амхерсте, штат Массачусетс, никогда не была замужем и потомства после себя не оставила… Зато оставила 1800, нет, не 180 и не тысячу, – он еще раз внимательно перечитал, – а именно 1800 первоклассных стихотворений, ставших классикой американской литературы. Вот они монбланы, выплываюшие из глубин истории! Вот они рукописи, которые не горят, и вот они мыши, порождающие горы!
– «А вы, мои случайные попутчицы смейтесь, смейтесь плоским шуткам завзятого ловеласа! Смейтесь над менее симпатичными и менее удачливыми соперниками. Завоевывайте своих донжуанов, рожайте от них в браке и без оного, детей, которым вряд ли что-то сможете дать… Нет, в плане материальном вы им дадите, и даже сверх меры, но вот в духовном вы им не сможете дать ничего. Во-первых, потому что уже вам ваши родители мало что дали – в 90-х уже было не до этого. А во-вторых, потому что в погоне за ценностями материальными вам просто некогда… Некогда ни самим приобретать, ни детям вашим передавать ценности духовные…»
– «Вы скажете, Эмили – это исключение, вы скажете: «Америка первой явила миру безудержное стремление к успеху»… Не к успеху, утверждает Дм.Быков (и трудно с ним не согласиться), а к преображению мира – «волю к преображению мира!» «Пусть даже через персональный ад отверженности и отшельничества, через дарджеровский убогий пансион, через дикинсоновский разрушающийся дом и зарастающий цветник»…
При этих словах он подумал о их с женой загородном доме, год от года приобретавщем все новый и новый блеск, и об их участке, год от года становившемся все краше и все зеленее. И о том, каких усилий им с женой все это стоило, да и стоит. Какие уж там пришвинские «сказки» и какие там пришвинские «сны»! Какой уж там Пришвин! Все намного прозаичнее и намного печальнее. Взять хотя бы эту последнюю командировку, а сколько их было в жизни, таких командировок!
Три дня упорных переговоров, которые, как он надеялся, увенчаются успехом, а значит, и очередным улучшением – Господи, ну куда еще лучше! – материального положения… «Но как это все обыденно, пошло и скучно! Как все это обрыдло за последние 20… 25, да нет, уже – все 30 лет! Когда-то все было внове, волновало, возбуждало, вызывало азарт… Но последние 5-7 лет – это же сплошное и бесконечное дежавю, это какой-то один бесконечный «День сурка»… Неужели у кого-то это по-другому? – Быть может, у того, кто не видит, кто не знает альтернативы?» Но он-то ведь знал, и это было то знание, что порождало в нем печаль.
Он видел «мышь» и видел «гору», но вместо того, чтобы идти в гору, из года в год продолжал уныло плестись за мышью.
Вот в чем был ужас его положения. А еще в том, что он, как и Александр Исаевич, уже осознал, что не бессмертен, и не было у него уверенности в завтрашнем дне.
Но, в отличие, от Солженицына, у него не было «дня», а был время от времени часик-другой в выходные дни, да порой какая-то часть ночи, чтобы положить на бумагу то единственное, что было способно на деле, а не по формальным признакам, выдуманным людьми, оправдать его жизнь!
«На фоне, – дочитывал он статью Дм.Быкова, – ее тотальной бессмыслицы в стране, где никому ничего не надо»…
ЗАЖИЛСЯ!
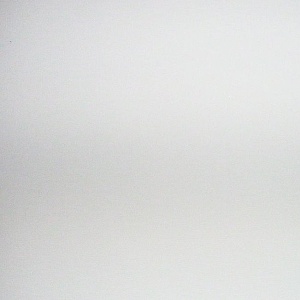 В жаркий августовский день, лежа на горячем пляже в Хорватии, нам трудно представить себе заснеженные равнины Красной поляны, раннее-раннее морозное утро, начинающуюся метель, которая – да, несколько ослабит мороз, но застит снегом глаза, облепит им щеки, забьет нос и рот, отдающий кучеру короткие хриплые приказания. От пара учащенного дыхания косматая борода и усы немедленно покроются бисером застывших капелек росы, которые не стряхнуть и не сбить даже рукавицей. Да и не до этого сейчас нашему герою.
В жаркий августовский день, лежа на горячем пляже в Хорватии, нам трудно представить себе заснеженные равнины Красной поляны, раннее-раннее морозное утро, начинающуюся метель, которая – да, несколько ослабит мороз, но застит снегом глаза, облепит им щеки, забьет нос и рот, отдающий кучеру короткие хриплые приказания. От пара учащенного дыхания косматая борода и усы немедленно покроются бисером застывших капелек росы, которые не стряхнуть и не сбить даже рукавицей. Да и не до этого сейчас нашему герою.
Из всего богатства мыслей, посещавших в течение долгой жизни эту когда-то могучую, а ныне жалко трясущуюся старческую голову, сейчас осталась лишь одна: «Ехать… скорее ехать…скорее…»
Скорее, пока не проснулся дом… Пока не спохватились… Пока, наконец, не удержали силой…
Ну, вот мы и в санях, вот и кучер на облучке – стегнул лошадей вожжами, и полозья жалобно заскрипели — им, по человеческим понятиям, тоже не меньше 90…
Ворота – этот своеобразный Рубикон – захлопнулись за спиной, и на этот раз уж навсегда. Ближайшая железнодорожная станция – Щепкино, – до нее еще несколько верст, а вот вечность, вечность для нашего героя уже не за горами.
«Ну, все, ну, с Богом…» — подбодрил он сам себя. И тут же: «Глупость, конечно же, сущая глупость…» Это уже человеческое, последние остатки человеческого заговорили в старике, но тут же и выветрились – при первом порыве ветра. Он так долго и так упорно вытравлял из себя все человеческое, все обыденное и бытовое, он так долго готовил себя к жизни вечной, столь непохожей на эту, земную, что почти уверовал: лишь захоти, и в тот же миг перейдешь в другое состояние, в иную форму бытия. Как стоит оттолкнуться ногами от края бездны и тут же воспаришь в воздухе – другое дело, надолго ли? – точно так же и он, – так ему казалось, – способен поменять, мгновенно, свое состояние и свою сущность… Старую, он давно уже даже не нес, а тащил, волочил за собой, как вериги… И речь даже не о старческих физических недугах (их впрочем тоже более чем хватало), а о тех вопросах, которых с течением жизни не становилось меньше – нет, только больше – и которые с каждым годом затягивались во все более и более тугой узел противоречий, терзавших душу.
Изо дня в день он пытался распутать этот, сродни гордиевому, узел. С этой целью он гнал и гнал целые стаи черных букв по белому и бескрайнему, как эта снежная равнина, полотну бумаги… Но все бесполезно. Мысль, взмывая легко и непринужденно, уже скоро наталкивалась на сопротивление… чего? неужели этого такого прозрачного, такого призрачного эфира? Ее траектория отклонялась от изначально заданной, а сама она начинала судорожно шарахаться из стороны в сторону, спотыкаться,.. искать, в чем был первоначальный промах… Всячески стараться вернуться к себе, прошлой…
Перо зачеркивало только что рожденные слова и целые строки, тут же выводило новые, перечеркивало, вымарывало и их, переходило на поля, а с полей – на какие-то клочки бумаги… Еще немного и уже не только жена, из года в год переписывавшая начисто его «иероглифы», но и сам он не в силах будет разобрать суть написанного. Не слов – это было бы куда ни шло, – мыслей…
Временами ему начинало казаться: а уж не сам ли он, подсознательно, пытается запутать «следы», сбить с толку и себя, и других, идущих по им проторенному пути; увести их как можно дальше от исходной точки и там, вдалеке, обрести новую глубину и новое звучание… Когда-то в молодости ему это удавалось…
Но нет, цепочки «следов», выделывая замысловатые зигзаги, пируэты и спирали, по большой – малой ли дуге, разворачивались и рано или поздно возвращались к исходным положениям. Подобно заплутавшему в непроходимой тайге путнику шли они не по прямой, а нарезали все новые и новые круги.
Причем, — вот в чем парадокс, — чем прямее и ровнее начиналась мысль, тем скорее возвращалась она в исходную точку. Ясные и простые мысли, способные, казалось бы, найти самый короткий и быстрый путь к истине, — они-то и оказывались в итоге от нее, от истины, дальше всего.
«Вот так же и в жизни, — часто думалось ему, — казалось бы, ну чего проще – живи по правде, не лукавь, не криви душой, люби… – и все будет хорошо! Ан, нет! Это-то как раз зачастую, а практически всегда, и приводило к кризисам в отношениях с другими людьми – ссорам, обидам, многодневной игре в молчанку…
И причем не с кем-то одним, а буквально со всеми: от самых близких до, в общем-то, случайных людей. Начнешь бывало беседовать с кем-то из посетителей, и в первые минуты думаешь: «Ну вот, наконец-то нашел родственную душу!» Но слово за слово, и потянулись мелкие, сначала едва заметные трещинки. И сразу, сразу же начинают они шириться и множиться, и чем больше пытаешься сузить их, тем быстрее они растут…
Тут уж начинаешь посматривать на часы и намекать, что, мол, и другие ждут своей очереди в коридоре… И так из раза в раз.
А если кто и прилепится, станет заглядывать преданно в глаза и смотреть пристально в рот, тут уж непременно какая-нибудь корысть или интерес. И как только это поймешь, – как там у Хармса? – «…и костыль задрожал в его старческой руке…»
Раньше хоть какая-то надежда была и потому жил, работал, боролся… Да и сил, чего уж там, поболе было… А теперь – все! Изжился! Ни силы, ни надежды, ни веры…
Вера – только одна. Что там, за этими снежными равнинами, за этими чернеющими из-под снега лесами, за этими нависшими темными тучами… вдруг откроется нечто, что оставит сразу далеко-далеко позади и заставит забыть всю суету сует этого мерзкого, пустого и бесполезного мира. И вот еще – «тварного», как очень точно и звонко выразился недавно… Кто? – Ах, да, Бердяев, по-моему. «Тварного…., да тварного»..
И как бы в подтверждение этих слов, – а старик давно уже не просто думал, а бубнил себе под нос, – маковки далеких деревьев окрасились в розовые тона.
Занималась заря нового, – а для кого-то последнего, – дня.
ГЕЗАМТКУНСТВЕРК

Как податливы и как безропотны наши души!
Как впитывают они краски того или иного времени года!
Палитра каждого из них различна,
но не только красками наполняется она.
А, может, это и краски, но такие,
о которых мечтает каждый художник —
Помимо цвета, обладают они вкусом и запахом;
мы их осязаем всеми порами своих покровов
и ощущаем каждой частицей своей души.
Мы ведем себя сообразно наносимым на нас краскам.
Мы – движущиеся персонажи картин,
превращающихся на наших глазах в кинокартины.
Величайший художник – каждое время года.
Еще полгода назад мы парили в облаках,
плывших по незамутненному небу весны.
Девственно чистые поля и рощи, омытые водами купели,
Еще не знали стыда и доверчиво
протягивали к нам свои руки.
Струны души, колеблемые легким эолом,
издавали радостные звуки, ноздри
вдыхали аромат просыпающейся земли…
С утром, радостным утром воскресного дня
сравнил бы я это время года.
Ты проснулся без звонка и сразу понял:
ты принадлежишь только себе и нет сил,
способных принудить тебя делать то,
что ты не хочешь. И с каждой минутой ты будешь
все больше проникаться этой мыслью,
И природа будет радостно вторить
состоянию твоей души и тела.
Ведь впереди – лето!
Буйство красок, буйство зелени,
буйство жизненных сил!
Ты чувствуешь себя героем, идущим
за яблоками Гесперид.
И какие бы трудности не встретились
тебе на этом пути,
ты все их преодолеешь и выполнишь
этот свой восьмой или десятый подвиг.
Но вернешься ты тогда, когда радость жизни
уже перельется через край,
и потоки этой радости – слишком много ее! –
уже перестанут радовать глаз.
Помутился ли хрусталик или это
падающие листья замутнили
еще недавно столь прозрачные воды?
Золото добытых тобой яблок
блекнет на фоне тех бесконечных плодов,
что увешивают каждое дерево и каждый куст.
Ты вернулся в другую страну и к другим людям.
Они больше не водят хороводов,
не поют песен и не влюбляются друг в друга.
Их лица мрачны, и с тревогой смотрят они на тебя.
Легкие облачка – символы наших душевных порывов
превратились в тяжелые серые тучи.
Свинцовыми гирями нависли они над головами людей.
Художник, куда девались твои яркие краски?
Последнее золото облетает с твоих картин
под напором северного борея,
оставляя нам серо-белый монохром с элементами черного.
Наши души съеживаются и ищут укрытия
в салонах автомобилей и за окнами домов и кафешантанов.
Нам снова нужна родственная душа
к сердцу и теплая грелка к ногам.
Мы втягиваем головы в плечи,
поднимаем воротники и хмуро бредем
в веющую холодом зиму.
Художник, отложи на время свои краски.
Тебе понадобятся только две из них…
«Время Малевича»…
Эти строки он написал после продолжительной болезни, от которой все никак не мог окончательно оправиться. Уже пойдя на поправку, уже выйдя на работу, он все еще продолжал ощущать симптомы, настораживавшие его – или это он им чересчур поддавался? – и то и дело напоминавшие ему: «Нет, все же ты не здоров, а, может, уже и не будешь здоров: организм ослаблен болезнью и лекарствами. Или окончательно подорван? Малейший рецидив – очередная ударная доза лекарств, и ты – в лучшем случае инвалид…»
Несколько дней назад он вынужден был возобновить свой привычный образ жизни, и эта вынужденная деловая активность, эти вынужденные выходы на улицу – в непогоду, в противный моросящий дождь и в не менее противный зябкий ветер – все это немедленно выявляло в нем до конца не прошедшую, а где-то в организме надежно затаившуюся хворь. Он болезненно кутался в теплую, не по сезону, одежду, старательно накручивал вокруг шеи шарф, обливался болезненным потом, хандрил и спешил поскорее оказаться дома, а дома – поскорее добраться до кровати.
Ночь приносила некоторое облегчение, но ненадолго. С первыми же движениями возобновлялось покашливание, лоб покрывался испариной…
Сегодня он проснулся еще в сумерки. Тяжелые мысли и неприютное осеннее утро навеяли ему те строки об исчезнувших красках, о невостребованных яблоках Гесперид, о Малевиче. Отложив ручку, полный тихой грусти, он вновь забылся…
Из недолго длившегося забытья вышел он с ощущением света и какой-то тихой радости, поселившейся внутри и уже отвоевавшей некоторое место у обычной тревоги. Через окно лился настоящий солнечный свет, и не только солнечный. Подойдя к окну, он увидел, что свет исходил и от позолоты крон. Подобно фантастическому золотому цунами набегали они на дом. Подобно гряде золотых холмов убегали вдаль.
Похоже, было не холодно, возможно, даже тепло – бабье лето? – и тело впервые после болезни потребовало движения. Через двадцать минут в своем спортивном костюме он был уже в парке.
Здесь к радостным зрительным образам добавились сочные осенние ароматы, грудь наполнил свежий и какой-то настоявшийся, что ли, воздух. Ноги шагали пружинисто, более того – как застоявшиеся кони рвались они вперед и вперед. В какой-то момент он даже перешел на бег, но вовремя сдержал себя – «Тпру!»
Все виды впечатлений – слуховых, осязательных, обонятельных, едва ли не вкусовых, но в первую очередь зрительных – ворвались в его сознание и подобно очистительной стихии опрокинули, снесли и вымели оттуда еще утром, казалось бы, так прочно поселившиеся там опасения и страхи.
Он смотрел и не мог насмотреться, дышал и не мог надышаться, вкушал ароматы и не мог ими до конца насладиться, двигался, и казалось, не будет усталости. Неожиданно в очистившемся его сознании всплыло странное слово – он вычитал его где-то в дни своей болезни – «гезамткунстверк»… Означавшее то универсальное произведение, которым грезил Вагнер и которое должно было соединить в себе зрительные, звуковые и словесные образы и ощущения, слово это, такое неказистое, довершило силу испытываемого им сейчас Впечатления и охватившей его Радости Бытия.
Каждый шаг, каждый вдох, каждый взгляд прибавляли сил и жизненной энергии.
«Так что я там с утра писал о скудости красок осени, о «серо-белом монохроме с элементами черного»?.. Художник, не отложи, а наоборот – возьми свои краски … Гуще, гуще наноси их на холст наших нив и на холст наших душ! «Золото на голубом»! Что ни мазок – то образ, что ни линия – то луч, что ни лессировка – то свет…
«Время Левитана»!
