Поздний час
Иван Бунин и Александр Бабков
 Ах, как давно это было, сказал я себе. Лет сорок, да каких там сорок – все сорок пять, наверное! Жил я тогда с родителями в конце Ленинского, а в школу приезжал сюда, в Ленинского начало. Школа наша стояла, да и теперь стоит у самого входа в Нескучный сад. Как часто, сбегая с уроков, мы отправлялись сюда, в этот зеленый оазис, случайным образом сохранившийся в самом центре Москвы.
Ах, как давно это было, сказал я себе. Лет сорок, да каких там сорок – все сорок пять, наверное! Жил я тогда с родителями в конце Ленинского, а в школу приезжал сюда, в Ленинского начало. Школа наша стояла, да и теперь стоит у самого входа в Нескучный сад. Как часто, сбегая с уроков, мы отправлялись сюда, в этот зеленый оазис, случайным образом сохранившийся в самом центре Москвы.
И я пошел по мосту через овраг, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи. Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – школьником я думал, что он был еще при Батые. На самом деле мостов через тот же овраг здесь три: и этот-то небольшой, а остальные два так и вовсе мал-мала меньше; третий даже скорее напоминает просто грот, а не мост.
Вот он: сбежав вниз по асфальтированной дорожке, — а раньше она была просто земляной, с вымощенными кирпичом стоками для дождевой и талой воды по обочинам, — я оказался на берегу Москвы-реки. Месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел пароход, который казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял.
Я направился вдоль реки: то ли по течению, то ли против – я так никогда не удосужился поинтересоваться, куда течет река; течение же было таким слабым, что ощущение было, будто река стоит на месте. Как время в те далекие теперь годы. Молодые годы тем-то как раз и отличаются, что ты не замечаешь их течения. Ты их и так подгоняешь и эдак, а они все стоят и стоят на месте. Зато теперь как быстро покатились они под гору.
Гора — точнее пригорок, конечно, чем гора, — находилась от меня как раз слева, с разлапистой и плакучей березой на склоне. Как живописно смотрится она днем и как гармонично сочетается с Библиотечным домиком на косогоре. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Мы сбежали вместе с тобой с уроков и долго гуляли по Нескучному. Казалось бы все разговоры уже переговорены, все анекдоты рассказаны, все шутки отшучены… Мы молча сидим на скамейке, на этом самом косогоре, в кустах зацветающей сирени. Я слышу запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья – и вот вдруг решаюсь и беру, замирая, твою руку…
Я прохожу один пруд, Екатерининский, затем другой, Андреевский. Все здесь немо и просторно, спокойно и печально – печалью московской ночи вдали от основных и второстепенных магистралей, которые даже ночью живут своей автомобильной жизнью. Одна из них на противоположном берегу Москвы-реки, это Фрунзенская набережная, но автомобилей немного, и их звуки практически не нарушают гулкую тишину города. Гулкая это та, к которой годами привык и практически уже не замечаешь. Такая же тишина была и тогда: при всем дневном и интенсивном трафике Фрунзенской набережной, при гуле, доносящемся с Ленинского проспекта, при гомоне детей и постоянных окриках их родителей на детской площадке прямо за нашими спинами… Летящих по небу самолетах и плывущий по реке кораблей… Я же не слышал ничего, кроме стука, да что там стука – настоящего набата своего сердца и крови, отчаянно пульсирующей к меня в висках.
Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие овраги убегали вверх – к аллеям парка; свет от фонарей на набережной выхватывал их из темноты, как слишком яркий свет морщины на лицах ровесников. Сейчас ведь все молодятся – модно, по-молодежному, одеваются, пользуются благами современной буквально чудеса творящей косметологиии, перенимают молодежный жаргон… В сумерках вечера или ночного бара вполне могут сойти за молодых. Но стоит на лица их упасть частице света, и ты понимаешь, что ты далеко не на школьной и даже не на студенческой вечеринке.
Я шел и шел, ступая по пятнистому тротуару, – в свете фонарей он сквозисто был устлан светлыми и темными шелковыми кружевами. У нее было похожее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и карим молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого? Ах, нет, это было на выпускном вечере в той же школе…
… Пора было возвращаться. На обратном пути я посмотрел в ту сторону на другом берегу реки, где раньше был кинотеатр «Фитиль». Почему был, он, наверное, и сейчас там стоит, но, конечно, уже не тот, не советский, не допотопный… А бывают ли на Москве-реке потопы? Были ли? Если и были когда, то точно еще до «Советов». Нет, сейчас там, в «Фитиле», все как надо – цифровое и 3D-кино, Dolby Digital, поп-корн, кока-кола… Тогда, конечно, ничего этого не было, но была… ты, и я ни за что, ни за какие новые и старые «коврижки», ни за какие блага на свете не променял бы тот вечер, когда ты согласилась сходить со мной в кино. Это как раз был «Фитиль», но это единственное, что я помню из обстоятельств того памятного мне вечера. Ни что был за фильм, ни кто там играл, ни как мы туда добрались – на метро, на троллейбусе или просто пешком, ни как мы возвращались обратно… Нет, решительно ничего не помню, и при этом это определенно был один из самых великих вечеров моей жизни!
За воротами Нескучного сада я не свернул налево, а пошел прямо – я хотел вновь взглянуть на здание нашей старой школы. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад: каменная ограда, двор, большое каменное здание во дворе – все так же казенно, скучно, как было когда-то, при нас. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний – и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем берете и в новом сером костюмчике с пластмассовыми пуговицами, потом худой юноша с отпущенными волосами под «битлов» — предметом постоянных неприятностей и скандалов в школе и дома, в серой куртке и в щегольских слегка расклешенных – сильно все же было нельзя – панталонах; но разве это я?
Я пошел в направлении вашего дома – дома номер 12 на Ленинском проспекте. Сколько раз я провожал тебя из школы, неся твой тяжеленный портфель, но мне он казался не тяжелее пера древнеегипетской богини Маат: я бы мог нести его и нести бесконечно… И еще пару чемоданов в придачу. Но твой дом был всего в двух шагах от школы, и столь же коротким было мое счастье. И тогда в ходе этих непродолжительных прогулок, и в целом.
У входа во двор я приостановился и попытался вспомнить, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные светлые волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое школьное платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела… Это было начало моей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости…
Конец не заставил себя ждать. Вот здесь у этого подъезда ты сказала мне, что не стоит мне больше тебя провожать, что тебе со мной скучно и что есть и другие претенденты. Что им тоже надо дать шанс. Я не верил своим ушам. Не решаясь поднять глаза, я смотрел на ее округлые колени, рельефно выступавшие из-под школьного укороченного платьица с оборочками, на ее изящные черные туфельки. Я готов был вот-вот сорваться и крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за платье, за туфельки готов отдать жизнь!»
— Дело ясно и кончено, — сказала она. – Сцены бесполезны.
Вот на этом самом месте, у этого самого подъезда сказала мне это она. Разбив мне сердце на многие годы. Я с силой дернул за ручку подъезда, и она распахнулась. Теперь на четвертый этаж. Нет, спасибо, лифт не нужен. Мне нужно еще справиться с охватившим меня волнением. Привести мысли и чувства в порядок – ведь не могу же я появиться на пороге ее дома таким взъерошенным и таким очумелым. Она не поймет и тут же вызовет врача. Нет, я в себе, в себе! И с сердцем у меня тоже все в порядке! И с давлением тоже. Я просто… Я просто оказался в — как его? – в во временнОм… в провале во времени. Или, как это там у него, у этого… у Гумилева – «… заблудился в бездне времен».
Дверь открывается – эх, если бы тогда все эти двери так легко и радушно открывались мне навстречу! На пороге она, Юля. Ясно, что уже не та, не прежняя – хрупкая и волшебная – недостижимая, но по-прежнему такая же милая и радушная. «Что-то долго тебя не было!»
— Да, сорок лет, не меньше.
— Каких еще сорок лет? Ты о чем? Ты случаем не выпил? Какой-то ты странный сегодня…
— Шутишь? Я ж уже четверть века как ни капли. Это старое, видать, вино забродило. Забродило и ударило в голову…
— Главное, чтобы не седина в бороду и не черт в ребро. Ладно, раздевайся скорее, а то ужин простынет…
Поздний час
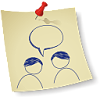












Вот тебе, дедушка, и «Про любовь»… А то все Меликян, Меликян с ее многогранной …
За этот чудесный рассказ, Саша, я готов тебе простить «Давайте поиграем».
И, как всегда, «у хорошего мужа и жена хороша!»
Мои тебе поздравления с Днем рождения Юли!
Спасибо Осе на добром слове о взаимном разделении женой заслуг мужа и наоборот. Интересно, что в дореволюционные времена словом не ограничивались, а награждали за это и делом. Правда, только жен за заслуги их мужей. Как бы подтверждая тем самым немалую заслугу жен в том, чего удалось добиться их мужьям. В наше время всеобщей эмансипации женщин можно было бы и для мужчин нечто подобное учредить…

Речь идет об ордене, учрежденном еще Петром Первым – т.н. ордене Св. Екатерины, которым Петр удостоил – догадайтесь с трех раз! – правильно, свою жену – Екатерину Алексеевну в 1713 году. Это как же надо было провиниться, чтобы для заглаживания своей вины аж новый орден учредить! Да причем, красавец какой! Орден, а не муж… См. картинку.
С этого момента это вошло в традицию, и удостоилось этой чести и этого ордена чуть более 700 женщин, ну а в 1917 году указом ВЦИК и СНК орден этот был упразднен, и вернулись к обычной народной мудрости «Муж и жена – одна сатана». А позже так и вовсе ввели в практику жен иных партийных деятелей и государственных мужей ссылать куда подальше бессрочно и без права переписки. Не исключено, что не без участия и не без ведома самих мужей – государственных и просто.
Остается добавить, что Св. Екатерина была «великомученицей» и что будь мы, мужчины, хоть немного самокритичнее, мы бы настояли на возобновлении этой традиции и на возможности каждого мужа удостаивать свою жену этой высокой награды. Можно и без «Екатерины», а, скажем, просто «Святой» или, скажем, просто «Великомученицы»…
Зачитался «Поздним вечером» так, что и забыл, зачем пришел на Каунтерпойнт. Вспомнил эти благословенные времена, мысленно прогулялся по Парку, подошел к школе, услышал детские голоса, увидел белокурую девочку с длинноволосым мальчиком в слегка расклешенных панталонах….Да, верно говорит Иосиф, муж и жена — одна сатана. Как Юлиными рассказиками зачитываюсь, так и Сашиными. Стал припоминать, какие пары в мире литературы были известны. Не зря Саша упомянул Гумилева — Гумилев и Ахматова. Мережковский и Гиппиус. Но мне ближе сочетание Шопен и Жорж Санд, поскольку Саша сегодня выступил прямо таки с шопеновским этюдом. С чем Юлю и поздравляю!
Саша! Какой ты здесь настоящий! Чувствующий, мягкий, любящий! Согласна с Андреем и Осей: виртуозно, но тихо, лирично, лёгким касанием! Этот маленький шедевр достоин Юли!