Харджиев
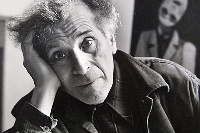 Интервью Николая Харджиева (историка русского авангарда, лично знавшего Малевича, Татлина, Филонова и вообще едва ли не всех ключевых героев русского искусства и литературы XX века), данное им в 1991 году Ирине Голубкиной-Врубель, напечатанное в 1995 году в журнале “Зеркало” (Тель-Авив, № 131, декабрь).
Интервью Николая Харджиева (историка русского авангарда, лично знавшего Малевича, Татлина, Филонова и вообще едва ли не всех ключевых героев русского искусства и литературы XX века), данное им в 1991 году Ирине Голубкиной-Врубель, напечатанное в 1995 году в журнале “Зеркало” (Тель-Авив, № 131, декабрь).
Ирина Врубель-Голубкина: Встречи и работа с какими людьми оказали на вас наибольшее влияние?
Николай Харджиев: На меня наибольшее влияние оказывали художники, а не поэты и филологи. Больше всего в понимании искусства я обязан Малевичу. С Татлиным я тоже очень дружил, причем скрывал это от Малевича. Они были врагами, и мне приходилось скрывать от каждого из них то, что я общаюсь с другим. К счастью, один из них жил в Москве, a другой — в Ленинграде. Татлин был человеком с чудовищным характером — маньяк, боялся, что у него украдут какие-нибудь профессиональные секреты. Однажды во время войны с Финляндией ко мне в Марьину Рощу приехала Ахматова. Квартира была коммунальная, она у меня жила, я в коридор выселился. Позвонил Татлин, и я сказал ему, что у меня Анна Андреевна, может быть, он нам покажет работы? Он нас пригласил к себе. Было затемнение, и мы в жуткую ночь, без электричества, в страшной грязи и слякоти добрались до Масловки. Я сначала поднялся в его мастерскую. Она находилась на последнем этаже, последняя дверь, чтобы мимо никто не проходил. Стучу — нет ответа. Анну Андреевну я оставил внизу, спустился, говорю: «Он, наверное, в квартире». Тогда я поднялся на шестой этаж, его квартира была в том же дворе, — тоже нет ответа. Я был в ярости, и мы поехали домой. Потом я решил, что он, вероятно, подумал, что Ахматова подсмотрит его профессиональные тайны. Я с ним прекратил знакомство. Кроме того, мы еще с ним работали над «Делом» Сухово-Кобылина. Он сделал один рисунок «Зал суда». Я не люблю театр, но чувствую его. Я сказал ему, что на рисунке скучно стоит стол, все будут видеть только спины. «Поставьте его по диагонали, как у Тинторетто». Он так и сделал, а потом уверовал в мои неслыханные способности. Я ему сказал: «Ну что вы, я же не занимался театром, вот Леонид Петрович Гроссман, он выпустил книгу и писал статьи по театру, и он будет очень хорошим консультантом». Через два дня звонок: «Что ты мне такое говно посоветовал?» Я говорю: «Как вам не стыдно, он уважаемый человек, профессор, во всяком случае не заслуживает такого отношения». — «Нет, он мне не нужен, плохой ты человек, не хочешь мне помогать». Мне пришлось расшифровывать ему символику «Дела», там ведь Варавин — исчадье ада, разбойник Варрава, которого выпустили вместо Христа. Работал с ним довольно долго. Он мне обещал, что со мной тоже заключат договор. Но, когда пришла комиссия и я там был, он про меня ничего не сказал. Я ушел и прекратил с ним знакомство.
Проходит полгода — он лукавая бестия был, как дети, хитрец был дьявольский, — звонок по телефону — меня. Я чудно узнал этот голосок: «Говорит Т-а-а-тлин», — я молчу, тогда он произносит фразу: «Ну, знаешь, у тебя тоже характер». Я рассмеялся. Таким образом ссора прекратилась.
И.В.-Г.: Он завидовал Малевичу?
Н.Х.: Он его ненавидел лютой ненавистью и в какой-то мере завидовал. Они никак не могли поделить корону. Они оба были кандидатами на место директора Института художественной культуры. Малевич сказал: «Будь ты директором». Татлин: «Ну, если ты предлагаешь, тут что-то неладное». И отказался, хотя сам очень хотел быть там директором. Там всегда была распря, пока тот не уехал в Киев. Когда Малевич умер, его тело привезли кремировать в Москву. Татлин все-таки пошел посмотреть на мертвого. Посмотрел и сказал: «Притворяется».
И.В.-Г.: Когда вы познакомились с Малевичем?
Н.Х.: В 1928 году на вечере ОБЭРИУ. Тогда я со всеми познакомился — с Хармсом, с Введенским. Там был Туфанов, старый заумник, который оказал на обэриутов некоторое влияние. Пожилой человек, калека, горбатый, нелепой наружности, но любопытный человек. <…> Я был с Эйхенбаумом. И Малевич сидел там — очень важный.
И.В.-Г.: Какие были у Малевича взаимоотношения с Богом?
Н.Х.: Конечно, у Малевича мистический элемент присутствует. Когда Ленина повесили вместо иконы, он сказал, что этому месту пустым оставаться нельзя. Еще он говорил: «Чем отличается моя беспредметность от их искусства?» — и сам отвечал: «Духовным содержанием, которого у них нет!» А Крученых говорил: «Бог — тайна, а не ноль. Не ноль, а тайна».
И.В.-Г.: О чем вы говорили в последние годы с Малевичем?
Н.Х.: На разные темы были разговоры, но, как всегда, об искусстве. Из русских художников он и Татлин больше всего любили Ларионова. Хотя они ссорились с ним, все ссорились. Малевич тоже поссорился с Ларионовым. Тем не менее они оба соглашались, что Ларионов — уникальный живописец. Я считаю, что после Сезанна такого живописца не было.
И.В.-Г.: Кто из поэтов был ближе всего Малевичу?
Н.Х.: Он все-таки Крученыха больше всего ценил. Он говорил Хлебникову: «Вы не заумник, вы умник». Нет, он очень ценил Хлебникова, но Крученыха считал параллельным себе — беспредметник и заумник.
И.В.-Г.: Как Малевич относился к тому, что происходило в 30-е годы?
Н.Х.: Хотя он очень бедствовал, но по натуре он был оптимист. Он пытался что-то делать, какие-то архитектурные проекты, какой-то соцгородок. И это где-то даже полуодобрялось, но из этого ничего не выходило. Он был очень волевой и настойчивый, хотя уже был болен тогда. Проект соцгородка он сделал на основе своих архитектонов. Даже хотел заняться утилитарной архитектурой, что не соответствовало его установкам. Он мне даже однажды сказал, что готов принять социалистический реализм, только с одной поправкой: чтобы это был художественный реализм.
И.В.-Г.: Что он имел в виду?
Н.Х.: Чтобы это было искусство. Он был готов даже сюжетную вещь сделать. Но тогда искусство было отдано людям неискусства, и поправка Малевича на «художественный соцреализм» не была приемлема. Это была куча бездарностей, рисовавших по фотографиям тематические картины.
И.В.-Г.: В 30-е годы атмосфера постоянного давления со стороны властей и ощущение «закрытия искусства» не заставили Малевича и Татлина сблизиться между собой?
Н.Х.: Татлин продолжал ненавидеть его жуткой ненавистью, а Малевич относился к нему как-то иронически. Они никак не могли поделить корону. Татлин все-таки как-то приспосабливался — в театре работал, оформлял спектакли. Он не гнушался никакими пьесами, пусть даже преуспевающего автора, лишь бы была работа. Оформил более 30 спектаклей и получил «заслуженного». А Малевич, когда еще закрыли Институт художественной культуры, был уже вполне «прокаженный». Он бездействовал, но ученики к нему приходили, и он по-прежнему был очень влиятельный. Но когда он умер и его хоронили любимые ученики Суетин, Рождественский и другие, так на их лицах была и некоторая радость освобождения, потому что он все-таки их очень держал. Его присутствие изменяло их жизнь и биографию. Они, конечно, очень горевали, но они были уже не дети, и это была свобода от него. На его похоронах было очень много народу, ученики руководили церемонией. Гроб, сделанный Суетиным, был доставлен из Ленинграда в Москву, потом была кремация, похороны. Могилу потом потеряли, хотя рядом жили родственники. <…>
И.В.-Г.: А как Малевич общался со своими учениками? Это была коммуна? Близкие отношения?
Н.Х.: Нет, нет. Они к нему приходили, он читал им лекции. В Витебске обстановка была цеховая, они ежедневно общались в школе, он их учил. Но в Ленинграде это уже было не так. Он жил в этой ужасной квартире, они приходили общаться с ним. Но они уже сами были с усами, всему, чему надо, научились в Витебске. Больше всех Малевич ценил Суетина: у них было духовное родство. Чашник — верный малевичеанец, неплохой художник, очень близкий, но более подражательный. Суетин оригинальнее. Он прошел через супрематизм и пришел к очень своеобразным вещам. Как бы абстрактные фигуры с овалами, идущие от иконы. У него была изумительная серия слонов и в живописной трактовке, и в супрематической. Это все пропало, жены растащили. В 20-х годах он делал скульптуроживопись с рельефами. Замечательный рисовальщик, человек с диапазоном, уверенный в том, что он делает, но запутавшийся в личных делах.
Он был любимым учеником, и Малевич о нем страшно заботился. Искал ему врачей. Мой друг Суетин был психопат, невыносимый человек с миллионом личных историй. Он меня этим изводил, приезжал ко мне на ночь, не давал спать, рассказывал об очередной трагедии. Когда он уже лежал в больнице, я пришел навещать его с рождественскими подарками. Меня не пускали, но я дал взятку, и его привели к нам в маленькую гостиную. Он подошел ко мне, потерся так и сказал виноватым голосом: «Ну, теперь я буду заниматься только искусством». А ему уже было пора умирать, уже было поздно.
И.В.-Г.: Процент евреев в художественно-литературной среде был тогда очень велик?
Н.Х.: Конечно, почти все ученики Малевича были евреями. Кроме нескольких, таких как Санников, Носков. Они очень способные были и исчезли неизвестно куда. Так у нас исчезали люди, ничего не оставалось. Посмотрите на эту знаменитую фотографию из художественной школы в Витебске с Пэном посередине (он был хороший художник, пленерист, он не был академиком. Бедный старик — его потом убили, такой кроткий, симпатичный еврей). Все на этой фотографии — евреи, вот Нина Коган, как всегда, блаженно улыбается. Только одна Ермолаева здесь русская, аристократка, у них было громадное поместье. Она была чудная женщина, ее потом расстреляли за религиозные убеждения, так хромую и повели на расстрел.
И.В.-Г.: Это был самый интернациональный период русского искусства?
Н.Х.: Ну, Малевичу вообще было наплевать — он никаких национальностей не признавал. Ему было важно — художник или не художник. Жена его, мать Уны, Рафалович, была еврейка или полуеврейка. <…> Вообще на эту тему никто тогда не задумывался, у меня гимназические приятели были евреи, никто на это тогда не обращал внимания. У Александра Бенуа были предки евреи — какой-то портняжка, они скрывали, конечно, но предок его был французский еврей, я это где-то прочел.
Да, когда к Малевичу перебежали от Шагала все эти еврейские мальчики, ну, Суетин был, правда, дворянин, скандал был на весь Витебск. Ида мне сама рассказывала, что отец ненавидел Малевича и был зол на нее за то, что Малевич ей нравится. У Шагала характер был дай боже. Малевич был все-таки относительно с юмором, а этот был страшно злопамятный. Он из-за этого в Париж уехал, что в результате оказалось ему на руку. Все равно он не мог простить Малевичу Витебска. Но Малевич был не виноват — все ученики сами сразу к нему перешли. Да и чему их мог научить Шагал — он был совсем не учитель. Они подражали его летающим евреям. Даже Лисицкий был сначала под влиянием Шагала. Но Малевич его оценил сразу. Он извлек из Лисицкого его архитектурную основу и предложил ему заняться объемным супрематизмом. Сам он делал опыты в этом направлении, но по-настоящему этим почти не занимался. В идиотской статье Хан-Магомедова написано, что это Лисицкий на него повлиял. Ничего подобного, это он дал эту задачу Лисицкому. Сам он попробовал, но этим не занимался. Его самого плоскостные формы вполне устраивали, они у него работали как объемные, движение света давало эту иллюзию. А Лисицкий был изумительный график, феноменальный, и колоризировал он очень умело, хотя и не был живописцем.
Ранних, шагаловских, живописных работ Лисицкого здесь почти не сохранилось, он ведь уехал за границу. Уехал он еще из-за того, что влюбился в художницу Хентову. Она выставлялась с «Миром искусства» и в других местах. Невероятно красивая женщина — ослепительная блондинка, еврейка без национальных признаков. Она была модница, прекрасно одевалась, вся в мехах, не знаю, откуда брала средства. У меня есть фотография — она вся в мехах стоит около работы Лисицкого. Это было в Германии, примерно во время выпуска «Веши». Она бы и сейчас была прелестна — такие белокурые локоны. Он был в нее безумно влюблен, а она к нему совершенно равнодушна, может быть, только ценила как художника. Она сама была художницей. Он из-за нее стрелялся, прострелил себе легкое и потом из-за этого болел всю жизнь. Об этом никто не знает, мне это рассказала жена Лисицкого Софья Кюпперс. Хентову трудно было представить женой Лисицкого, он маленький, а она шикарная женщина. Я с Лисицким встретился только один раз. У нее здесь остался брат, журналист, писал под псевдонимом Генри, человек темный и, вероятно, стукач.
Тогда люди были другие, о Маяковском написала очень хорошие воспоминания жена художника-лефовца, кажется, Нивицкого, истеричка, но что-то в ней было. Он ей страшно изменял, и она пожаловалась Маяковскому, считая, что это влияние ЛЕФа и Бриков. На что Маяковский сказал: «Старомодные мы, Лиля, с тобой люди».
И.В.-Г.: Николай Иванович! Что такое «искусство 20-х годов»?
Н.Х.: Это такой же миф, как поэзия Серебряного века. Никакого искусства 20-х годов не было. Это было искусство дореволюционное, все течения уже были созданы. Просто были еще живы художники-новаторы, они еще были не старые в момент революции. Пунин был изокомиссаром и покровительствовал левым. Он мне говорил, что про него написали тогда: «Честные и старые интеллигенты перешли на сторону революции», — а мне (Пунину) тогда было 29 лет». Все, что было сделано, было создано до революции, даже последнее, супрематизм, был уже в 1915 году. В начале 20-х годов они еще могли что-то делать, а когда кончилась Гражданская война, их сразу прекратили.
И.В.-Г.: Но всех этих людей привлекала возможность социального преобразования мира?
Н.Х.: Но в России это все не состоялось. Нет, конечно, футуристы в быту хотели все изменить, но это же была утопия. Малевич вначале пытался заниматься оформлением, но тогда было не до этого, Россия издыхала с голоду, он сам издыхал с голоду в Витебске. Организовать жизнь по законам искусства — это нереально. Правда, на Западе есть целые города и кварталы левой архитектуры. Но для кого это? Корбюзье строил виллы для богатых людей. Градостроительство изменилось, но жизни это не изменило. Я давно говорил, что любая социальная формация на Западе ближе к тому, что мы считаем социализмом. Индивидуум стал гораздо более свободным и защищенным, но никакой феерии в жизни создать все-таки не удалось.
Кроме того, к авангардистам обратились, потому что монументальные работы, оформление улиц, не могли быть выполнены старыми методами. Это могли только левые сделать, поэтому они и были мобилизованы.
И.В.-Г.: Вы считаете, что русские художники были оторваны от общего мирового процесса?
Н.Х.: Искусство было интернациональным, как никогда, но все-таки национальный акцент был. Был русский примитив, на Западе это не так принято. Вот Ларионов — это примитив, лубок, икона. Так, как вывеску оценили в России, ее нигде не оценили.
И.В.-Г.: Почему был такой рывок в русском искусстве?
Н.Х.: Поиски национальных истоков, корней. Ларионов первый понял важность народного искусства и примитива. До него этого не воспринимали как искусство, описывали просто, как Ровинский, ничего в этом не понимая, не воспринимая это как искусство.
И.В.-Г.: Я сейчас посмотрела иконы? в Третьяковке — это не примитив,?а интеллектуальное искусство высокого класса.
Н.Х.: Нет, это не примитив, но это монументальные и в общем упрощенные формы. Икона невероятно монументальна. Русские идут от греков, но все-таки создали свою икону, которая очень отличается от греческой и гораздо выше ее. Это тот случай, когда ученики превзошли учителей, но и учителя были недурные.
И.В.-Г.: Вы считаете, что примитив и лубок, войдя ?в интеллектуальное искусство, и создали этот прорыв начала века?
Н.Х.: И расчистка икон очень повлияла. Чекрыгин был совершенно помешан на «Троице» Рублева. Он говорил, что там такой голубой, которого не было в мировом искусстве. Икона и примитив изменили западное влияние, это столкнулось с кубизмом и в результате появилось новое русское искусство, не эпигонское, а своеобразное. Малевич мне как-то сказал: «Ну, пусть я и слабее Пикассо, но фактура у меня русская». А оказался не слабее! Сейчас он вообще идет номером первым в мировом искусстве. У него был и гонор, но в то же время и какая-то скромность, он цену себе знал. Это был уже новый язык искусства, и новые системы в искусстве были интернациональные. Малевич сейчас в Париже имел громадный успех, несмотря что он не живописец, Маркаде привез мне огромный каталог с огромным количеством ошибок. А Филонов провалился.
И.В.-Г.: Был ли какой-то комплекс неполноценности у русских художников по отношению к западным?
Н.Х.: Ну, Малевич и Ларионов прекрасно знали себе цену, ничуть себя не принижали. Даже Гончарова себе цену знала, ей, конечно, до Ларионова далеко, но как женщина она феноменальна, и Розанова знала себе цену, великолепно была уверена в том, что делает, большая художница. Остальные дамы были уже не то — Попова, Удальцова, Степанова, — куда им! Попова очень жесткая.
И.В.-Г.: А Родченко?
Н.Х.: Вообще дрянь и ничтожество полное. Нуль. Он появился в 1916 году, когда все уже состоялось, даже супрематизм. Попова и Удальцова все-таки появились в 1913-м, Розанова в 1911 году. А он пришел на все готовое и ничего не понял. Он ненавидел всех и всем завидовал. Дрянь был человек невероятная. Малевич и Татлин относились к нему с иронией и презрительно — он для них был комической фигурой. Лисицкий о нем ничего не высказывал, но тоже относился к нему презрительно, а Родченко ему страшно завидовал и ненавидел. Родченко сделал Маяковскому кучу чертежных обложек, а Лисицкий сделал одну (вторая плохая) для «Голоса» — разве у Родченко есть что-то подобное? Малевич сделал белый квадрат на белом фоне, а этот сразу черный квадрат на черном фоне — это сажа, сапоги. Когда он начал заниматься фотографией и фотомонтажом, на Западе уже были замечательные мастера — Ман Рей и др. Лисицкий уже следовал за Ман Реем, но не хуже. То художники были, а у этого фотографии — сверху, снизу — просто ерунда. Я считаю, что такого художника не было. Его раздули у нас и на аукционах. Семья его всячески раздувает — дочь, муж дочери. Внук, искусствовед под фамилией Лаврентьев, восхищается дедушкой — это семейная лавочка.
И.В.-Г.: Каково место Филонова в русском искусстве?
Н.Х.: Он не живописец, поэтому и провалился в Париже. Лисицкий тоже не живописец, но его космические построения заставили парижан отнестись к нему милостиво. А Филонов для них, наверно, что-то немецкое — экспрессионизм. Он феноменальный рисовальщик — невероятный. У него была такая маленькая работа, два мальчика в Гренобле, он потом ее раскрасил и испортил. Он вообще раскрашивал, он считал: главное — нарисовать, остальное приложится. Там были изображены два маленьких заморыша с чахоточными ножками. Гольбейн так бы не нарисовал. Он был маньяк, безумное существо, считал, что главное нарисовать, остальное все приложится.
И.В.-Г.: Вы с ним общались?
Н.Х.: Он даже написал обо мне в своем дневнике, о том, как мы с ним разговаривали. Я помню, последняя встреча была очень страшная. Его жену разбил паралич, она не выносила света. Они жили в общежитии на Макартовке. Мы стояли в коридоре и разговаривали, и вдруг она закричала диким голосом, и он пошел к ней. И, представляете, он умер от голода в блокаду, а она пережила его. Он сам себя изнурил голодом. Его жена была старше его на 25 лет — рыжеватая, милая, опрятная и очень гостеприимная женщина. Я пришел к ним, она спекла какой-то пирожок к чаю. Филонов сидит, не ест. Я ему говорю: «Павел Николаевич, что же вы?» — а он: «Я не хочу сбиваться с режима». Кроме того, была клюква с сахаром, она тогда стоила очень дешево и считалась немыслимым витамином. Он сказал: «Никому не говорите, что это целебная штука. Сразу все расхватают» — какой благоразумный! А у него на табак и на черный хлеб только и было — так он и жил. Сам был похож на своих персонажей: руки костистые, глаза маниакальные, очень слабый такой, волевое, одержимое существо. Сумасшедший, безумный маньяк. У него был один рисунок, почти беспредметный, колесообразные формы и конструкции. Даже невероятно, что человеческая рука такое могла сделать.
Филонов ценил Крученыха, хотя он был ему чужой. Крученых заказал ему рисунки к Хлебникову, и Хлебникову эти рисунки очень понравились. Вообще Филонов был любимым художником Хлебникова. Он написал портрет Хлебникова, и этот портрет пропал. Он, вероятно, отвез его семье в Астрахань, а там не ценили нового искусства. Семья Хлебникова все время жаловалась, что ему каждый месяц надо посылать деньги. Жуткая семья была, ничего не понимали, не ценили его, ни с каким Рембо не сравнить. Было такое его стихотворение, у меня полный текст выписан, рукопись, которую я видел у Митурича, он мне показывал, пропала. А он мог только писать. Это был такой вулкан, этот небывалый гений с того света, сравнивать с ним кого-нибудь просто смешно, человек с космическим сознанием.
И.В.-Г.: А как возник Филонов?
Н.Х.: Он учился в Академии художеств и был там чужой совершенно. Совершил долгое путешествие по Европе — пешком, денег у него не было. Был во многих музеях. Ранние его вещи были странные, символические, сновидческие. Рисовал он в Академии так, что старик Чистяков обратил на него внимание. Он у него не учился, но тот приходил в его класс и спрашивал: «Что нарисовал этот сумасшедший Гольбейн?» Его работы были в Русском музее, а потом их отдали сестрам. У них были две маленькие комнаты, а работы огромные, накрученные на валики. Ходить там было негде, а музей брать не хочет. Тогда я пошел на страшную аферу. Я сговорился с ЦГАЛИ, чтобы они забрали все вещи, и они согласились. Тогда я пришел в администрацию Русского музея и сказал: «Через день работы уедут в Москву. Как это глупо, художник всю жизнь был связан с Ленинградом. Почему его надо отдавать в архив, где его заморозят, никто его никогда не увидит, а потом вам же это отдадут на хранение». В общем, я их уговорил, и работы не уехали в Москву.
Я взял несколько вещей, устроил выставку в Музее Маяковского, а потом вернул. У него были две сестры. Старшая, хорошая, умерла, и осталась страшная дрянь и ханжа Евдокия Николаевна. Она написала потом воспоминания, где обо мне нет ни одного слова. Но у меня есть ее письмо, где она пишет, что я смог устроить выставку тогда, а она думала, что выставку Павла Николаевича удастся устроить только через 50 лет.
Потом часть вещей эта сестра продала иностранцам и Костаки — эта чудная, верная сестра. В Финляндию должны были быть вывезены 15 вещей, которые могли быть куплены только у нее. Картины разрезали на мелкие части, чтобы потом склеить. Но их накрыли, и это не удалось. Я сказал Евдокии Николаевне, что она торговка и дрянь, и она меня круто возненавидела.
И.В.-Г.: Николай Иванович, вы считаете Кандинского русским художником?
Н.Х.: Немецкий, абсолютно ничего общего не имеющий с русским искусством. Его ранние лубки мог нарисовать только иностранец, с полным непониманием. Но это ранние вещи, а как живописец он сформировался в Германии под влиянием Шенберга. Это музыкальная стихия, аморфная, а русское искусство конструктивно. Поздний Кандинский конструктивен, но он потерял себя, он хорош именно музыкальный, аморфный. Кандинские были поляки и Россию ненавидели. Он родился здесь, и мать его была русская. Но дома разговаривали по-немецки — лепет его был немецкий. Недаром он уехал в Германию еще в XIX веке. Он был там главой общества художников, а потом, после Blaue Reiter, стал совсем сверхгенералом. А в Россию он приехал во время Первой мировой войны, а потом застрял надолго в Швеции. Он не хотел оставаться в Германии, которая воевала с его родиной. Он был благороднейшим человеком. Но здесь он был абсолютно чужой, и все левые совсем не замечали его присутствия. У него не было здесь учеников. Он был здесь иностранец. Малевич мне про него кисло сказал: «Да, но он все-таки беспредметник». Больше того, он первый беспредметник был, но он ведь весь вылез из фовизма, через кубизм он не прошел, поэтому он не конструктивен и не имеет ничего общего с русским искусством. Возьмите кусок живописи фовизма (Ван Донгена, раннего Брака, кого хотите), отрешитесь от предмета, и вы увидите, что все эти яркие контрастные гаммы Кандинского, вся эта цветовая система идет от фовизма.
И.В.-Г.: Николай Иванович, что для вас сейчас самое главное в искусстве XX века?
Н.Х.: Величайший Хлебников — это такое уникальное явление, равного которому нет в литературе ни одного народа, такие поэты рождаются раз в тысячу лет. В искусстве одного назвать невозможно, как живописца я больше всего люблю Ларионова. Малевич, конечно, цветописец. Татлин все-таки вышел из искусства, в живописи он не может состязаться с Ларионовым, все-таки не дотягивал. У него одна вещь висела в квартире — «Яблоневый сад» Ларионова. Он мне говорил: «Видишь?» — «Вижу». Ну, конечно, Ларионов, Татлин, Малевич — главная тройка русская.
И.В.-Г.: Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?
Н.Х.: Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажен в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано. Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлек в эту историю все-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это все спекуляция.
И.В.-Г.: Почему это происходит?
Н.Х.: Это требует адской текстологической работы, кроме меня ее никто не в силах сделать. Я работаю над этим много лет, но мне не дали возможности издать. Издательства не шли на мои условия, хотели издать что-то для читателя, а я хотел, чтобы вся моя текстологическая работа была видна. У меня готова вся хлебниковская текстология. Вы видите все эти папки — это все хлебниковская текстология. Не установлены правильные тексты, текстологическая работа требует громадного знания материала. Но я боюсь, что мне не суждено это увидеть изданным. «Хлебников, он такой сложный, в нем есть всё», — сказал мне Мандельштам, прощаясь, когда он уезжал от меня в последний дом отдыха, где его арестовали. Я ему тогда дал почитать том Хлебникова. Потом, в 60-х годах, мне попалась книга Веберна о Бахе, где он сказал: «В Бахе есть всё». Это, конечно, разобщено во времени, но правильно.
И.В.-Г.: Тогда были такие духовные величины, как Хлебников, Маяковский, Пастернак. Как произошло, что взяли Ахматову, эту прекрасную эстетическую камерную поэтессу, и канонизировали ее?
Н.Х.: Но она все-таки большой поэт, хотя я ее не люблю. Когда мы с ней познакомились и подружились, она мне сказала: «Я всегда мечтала дружить с человеком, который не любит моих стихов».
А потом эта наша любовь к классикам, юбилярное литературоведение, канонизация — это возникло только в наше время, раньше такого не было. Наука тоже подгоняется. Юбилеи, симпозиумы, книги издаются. Создают такой олимп культуры. И характерно то, что это в период страшного одичания, — раньше так с культурой не возились. А Мандельштам — камерный поэт, его называют великим не по чину. Он гениальный человек, но не великий поэт. Признак великого поэта — диапазон, которым Мандельштам не обладал. Хлебников и Маяковский — вот великие поэты.
И.В.-Г.: Но канонизировали именно Мандельштама?
Н.Х.: Да. Называют великим поэтом совершенно не по чину, я бы сказал. Он гениальный человек был, но поэт камерный, мало написавший, вроде Тютчева. Уже Фет больше написал. Американцы сделали из него Брокгауза и Ефрона, четыре тома, пять томов и тут хотят это воспроизводить — он весь помещается в одном не очень большом томе.
Я вообще против учреждения обществ памяти Малевича, Хлебникова, Мандельштама и других — это спекуляция, учредители хотят объездить мир, а Малевич и Хлебников обойдутся без них, их прославлять не надо.
И.В.-Г.: Как повлияла на современную русскую литературу и культуру реанимация произведений и авторов, которые исчезли насильственным путем или ушли в эмиграцию?
Н.Х.: Что значит возвратить? Для чего возвращать — чтобы ознакомиться? Та интеллигенция, которая как-то выжила, и так все знала. В этом массовом возвращении есть какая-то глупость — в каждой пошлой статье, например, теперь цитируют Бердяева, которого после этого читать можно перестать. А Бахтин, без которого ни одна глупейшая статья теперь не обходится. Набокова у нас раздули без всякой пропорции. Он ничего общего с Россией не имеет, в послесловии к «Приглашению на казнь» он ругает русский язык. Зачем ругать свой родной язык, чтобы возвеличивать чужой? В том же по-слесловии он говорит, что он не читал Кафку (значит, читал), только до Кафки ему, как до неба, тот великий, а вы прочтите стихи Набокова — это же графомания и бездарность. Конец «Приглашения на казнь» Набоков украл у Платонова из «Епифанских шлюзов», там с гомосексуализмом и вообще. Но это и у Платонова плохо, портит ему всю вещь, вот Набоков и полакомился.
И.В.-Г.: Каково место Платонова в современной литературе?
Н.Х.: Ну, его знали и раньше. Я эту прозу читать не могу, там слишком много суемудрия, «естественного мыслителя» слишком много. Но человек он был замечательный и мудрый. Я виделся с ним только один раз у своего приятеля — писателя Фраермана. Платонов пришел туда, они вместе какую-то халтурную пьеску написали. Ему нечего было есть, он был в полном загоне. Мы перекинулись несколькими словами, и вдруг он сказал: «Давайте выставим Рувима и будем с вами водку пить». Он открыл дверь и вытолкнул на площадку Рувима, который ушел. Мы пили водку и разговаривали о Евангелии. Он мне сказал, что хочет написать рассказ о мальчике-абиссинце, предке Пушкина. Когда его увозили, то сестра этого Ганнибала долго плыла за кораблем — такая черная русалка, — это его поразило. А я ему сказал, что об этом же Тынянов хотел написать, он очень удивился — такое совпадение. О Платонове всегда легенды рассказывали. Мне он очень понравился, человек он был очень незаурядный. Я был свидетелем одной сцены в редакции журнала «Литературный критик», который тогда был либеральным, и Платонов писал для него статьи под псевдонимом Человеков. Был такой мутный аферист Дмитриев, принадлежал даже к молодым опоязовцам, собирал, кажется, автографы, потом был в ссылке одно время, потом сгинул, исчез, как привидение. Так Дмитриев рассказал, что он встретил Платонова и тот ему жаловался, что не может писать, что его не печатают, и это было рассказано в присутствии Платонова, который вышел в другую комнату и сказал, что он никогда не видел этого человека и не знаком с ним, и того с позором выгнали.
И.В.-Г.: А вы работали с Крученых?
Н.Х.: Мы дружили сорок лет, бесконечно ссорились и не могли расстаться друг с другом. Очень дружили.
И.В.-Г.: Как так получилось, что все пророки остались, а такие люди, как Бунин, Горький, Ходасевич, уехали?
Н.Х.: Ну, вот Ахматова могла уехать и не уехала. Настоящему поэту нужен воздух бедствий, из-за этого она прокляла эмиграцию. Она принципиально не хотела уезжать, у нее стихи есть об этом. А Флоренский даже служил им, он работал в Госплане. Он ездил с Дзержинским в одной машине, и тот отворачивался, когда этот крестился на церкви. Он был, кроме того, удивительный математик, но они его не пощадили, расстреляли такого умного человека, который им служил, потому что принципиально не хотел покидать родины.
И.В.-Г.: Что вы думаете о будущем культуры вообще и русской в частности? Или начало XX века закрыло на долгие годы возможность второго взрыва культуры?
Н.Х.: Во всяком случае, второго такого расцвета быть не может. Сейчас кое-кто пытается назвать начало века Серебряным веком русской поэзии. Это миф, выдумка, очень глупая. Это определение принадлежит поэту-символисту Пясту, который применил это к поэтам второй половины XIX века — Фофанов и другие. Это был упадок поэзии, до символизма, после 60-х годов. Были, конечно, явления замечательные, как Случевский, но пушкинский и некрасовский — разночинский — периоды поэзии были сильнее. Он и придумал название: серебряный — это все-таки не золотой. Потом это подхватил Сергей Маковский, который выпустил свои воспоминания в эмиграции. И так как сам он был поэт второстепенный, то перенес это на поэзию XX века, которая была самым настоящим золотым веком русской поэзии начиная с символистов, акмеистов, футуристов и обэриутов, которые состоялись невероятно каким образом, — неслыханный, небывалый расцвет русской поэзии, которого не было даже во времена Пушкина.
И.В.-Г.: В чем невероятность появления обэриутов?
Н.Х.: Осуществилось целое важное течение в русской культуре, а ведь их никто не печатал, самиздата не было, никаких распространений рукописных не было. Кроме Олейникова, самого неинтересного из них, потому что он все-таки юморист, хотя Л.Гинзбург его переоценивала. Он ходил в списках — «Муха» и все такое; прелестные стихи, но он не обэриут был. А они реализовались, несмотря ни на что. Введенский халтурил в детской литературе: ужасные книжки писал, хороших очень мало. Был картежник, игрок, ему нужны были деньги, и он дико халтурил, но не в поэзии. А Хармс, кажется, написал всего шесть детских книг, и очень хороших, — он не любил этого, но не мог писать плохо. Маршак придумал издавать своего рода комиксы — пересказывать классиков для детей, как, например, Рабле — зачем детям Рабле? Но Заболоцкий пересказал и Рабле и книжку такую выпустил. Маршак был делец и никакой не поэт, и все это чепуха. И вот Хармсу предложили пересказать «Дон Кихота». Я жил тогда у Хармса, он должен был пойти заключить договор. Мы договорились после этого встретиться, чтобы пойти обедать. Я спрашиваю у него: «Ну как, заключили договор?» Он отвечает: «Нет». — «Почему?» — «Знаете, на Сервантеса рука не поднимается».
И.В.-Г.: А что за человек был Хармс?
Н.Х.: Ослепительный! Непредсказуемый волшебник. Я видел многих замечательных людей, но он у меня на первом месте. Он был сама поэзия.
И.В.-Г.: Вы читали воспоминания Е.Шварца?
Н.Х.: Абсолютно не интересно. Евгений Львович был дурак, пошлятина, буржуазный господин. Я вам расскажу про него историю. Он дружил с Олейниковым, они вместе в «Детгизе» работали. Но Олейников над ним всегда издевался, дружески. И вот приехала какая-то актриса, которая пригласила к себе в номер гостиницы Олейникова, Хармса и меня. Олейников говорит: «Надо Шварца прихватить». Евгений Львович был очень польщен — для нас это было чепухой, а он очень любил все такое, он очень хотел пойти с нами в гостиницу. По дороге Олейников нам говорит: «Молчите и не говорите ни слова». У нас все время были разные мистификации, весь этот алогизм был перенесен на быт. Это была бытовая фантастика — с утра до вечера: дразнили, мистифицировали, иногда разговаривали за выдуманных людей. Так вот, приходим, выходит Евгений Львович, на одной щеке еще не смытая мыльная пена. Олейников говорит: «Евгений Львович! Мы никуда не идем, все перенесено». Он даже поперхнулся! «Вы сами куда-то собрались?» Он: «Да, то есть нет, то есть да!» Мы идем обратно, оставив совсем обалделого Шварца, а Хармс начинает разыгрывать Олейникова, уступать ему на каждой площадке дорогу и называть Надеждой Петровной — тот сам был болезненно самолюбив и не любил, когда над ним подтрунивают.
Шварцы были ужасные вещелюбы, собирали фарфор, всякую рухлядь. Хармс очень бедствовал, почти ничего не зарабатывал. Его тетка принесла ему сундучок, который раньше принадлежал ее мужу, бывшему капитану дальнего плавания. Там было много китайских и японских вещей, аметисты в серебре — целый сундучок. И вот к нему пришел Шварц с женой, а он набил мне всем этим карманы и говорит: «Вот видите, тетушка подарила мне, а я подарил это Николаю Ивановичу». А те бесились — по логике, он им должен был что-нибудь подарить; довел их до белого каления.
Сам он был человек бескорыстный, настоящий инопланетянин. Такие люди, как Хармс, рождаются очень редко. Введенский тоже был замечательный человек. Его «Элегия» — это гениальное, эпохальное произведение. Он был непутевый, распутник, безобразник, никогда не смеялся, улыбался только.
И.В.-Г.: А Заболоцкий?
Н.Х.: Ну, Заболоцкий был другой, более рассудительный. Потом их альянс как-то распался. Я помню, он пригласил нас — Хармса, Олейникова и меня — на свое тридцатилетие. А у него была жена, та, которая осталась его вдовой, хотя и бросила его незадолго до того, как он вернулся из лагеря. Она была тогда совсем молоденькая и страшно крикливая — мы ее все ненавидели. Он ее куда-то отослал и устроил такой мальчишник. В доме была только водка и красная икра. Но, когда мы проходили мимо коммерческого магазина, Олей- ников сказал: «Вот хорошо бы нас на ночь сюда». И мы, напившись, спорили об искусстве. Хармс нарочно называл скучнейшего немецкого художника XIX века (сейчас не помню какого) лучшим художником мира, уверял, что он гений. Все это закончилось дракой. Мы швыряли друг в друга подушками, а потом этот спор об искусстве решили закончить в Русском музее. Утром, после бессонной ночи, мы пошли туда, смотрели там Федотова, художников первой половины XIX века. Там был смежный зал с огромным дворцовым зеркалом. Кто-то сказал: «Боже мой, что за страшные рожи!» Я ответил: «Это мы».
И.В.-Г.: Николай Иванович, кто был для обэриутов «главными» поэтами в русской поэзии?
Н.Х.: Главное было — отрицание всей предшествующей поэзии. Они ведь были совсем другие — это алогизмы и вообще совершенно другая система. Хлебникова они, конечно, ценили, некоторые бурлескные вещи вроде «Шамана и Венеры», «Маркизу Дэзес». Я сказал Ввведенскому: «Вы аристократического происхождения, вы происходите от «Маркизы Дэзес», он сказал: «Да».
Но ближе им был все-таки Крученых, они его очень почитали, особенно Введенский. Он знал, что я дружу с Крученыхом, и попросил его с ним познакомить, сам не отваживался прийти к нему. И вот весной 1936 (?) года мы пошли с ним к Крученыху. Крученых знал, что есть такие обэриуты, но вел себя очень важно, что ему было не свойственно. Но странно, что такой наглец и орел-мужчина, как Введенский, вел себя как школьник. Я был потрясен, не мог понять, что с ним случилось. Введенский прочел не помню какое, но очень хорошее свое стихотворение. А потом Крученых прочел великолепное стихотворение девочки пяти или семи лет и сказал: «А ведь это лучше, чем ваши стихи». И вообще он был малоконтактен. Потом мы ушли, и Введенский сказал мне грустным голосом: «А ведь он прав, стихи девочки лучше, чем мои». Надо знать гордеца Введенского, чтобы оценить все это.
И.В.-Г.: Николай Иванович, за вами не появилось следующее поколение? Потом была пустыня?
Н.Х.: Абсолютная пустыня — и в ней отдельные отшельники! Были небездарные люди, в конце концов, что такое искусство? — что рубль, что пятак — были бы настоящие! Пятаки были, их презирать не нужно, но погоды они не делали. Это не было новым течением, а в XX веке все приходило течениями. Были отдельные способные люди.
И.В.-Г.: Распался круг?
Н.Х.: Да ничего не было — был Союз писателей, просто служащие, бюрократизм пронизал все и вся. Оглядки, цензура, да и сами занимались цензурой. Только бы не проглядеть. Талантливые люди были менее талантливы, чем могли быть.
И.В.-Г.: А в шестидесятые годы появившееся новое послесталинское поколение имело что-то общее ?с вашим по культуре и по таланту?
Н.Х.: Мне кажется, ничего крупного по-настоящему не было, явления не было. Того не переплюнули. Конечно, были люди, которые имели отношение к прошлому и что-то пытались сделать. Были все-таки талантливые люди. Но такого количества стихопишущих графоманов, как в России, нет нигде, и это совершенно часто затемняет картину.
И.В.-Г.: То есть в шестидесятые годы ничего нового не появилось?
Н.Х.: Ничего равноценного тому, что было. Недаром возник такой культ Малевича. Новые должны были отрицать и Малевича, и Татлина — гнать их к чертовой матери! Моя дружба с Хармсом окончательно закрепилась, когда мы были у моего друга Вольпе в квартире Чуковского. Сначала мне в другой комнате Маршак морочил голову, потом мы вышли, и Вольпе мне с возмущением говорит: «Вот Даниил Иванович утверждает, что Блок никуда не годится!» Вольпе занимался символизмом, обожал Блока. Я говорю: «Так что ж вас удивляет? Не отрицая, ничего нового создать нельзя». И Хармс мне подмигнул одним глазом. Так началась дружба.
И.В.-Г.: Так вы считаете, что не только не произошло взрыва, но они взяли на вооружение то, что произошло в начале века, и это окончательно их нивелировало?
Н.Х.: Конечно, но, с другой стороны, это понятно: многого не знали, жажда узнать — в этом ничего плохого нет. Не стали большими поэтами, зато появился целый слой грамотных людей. Ведь вот обэриутов мало знали в их время. Это ведь редчайший случай — реализовалось целое течение, не напечатав (кроме Олейникова) ни одной строчки.
И.В.-Г.: Но на следующие поколения именно обэриуты оказали самое большое влияние?
Н.Х.: Потому что они были последним великим течением, а потом, наше время такое дыр-бул-щирное, что система обэриутов — это эпохальная тенденция. Установка дана, ключ ко времени. А еще раньше — Крученых. Это еще Гиппиус поняла, хотя и ненавидела, и в 1917 году написала: «Есть формула — дыр-бул-щир»!
Харджиев
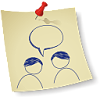



























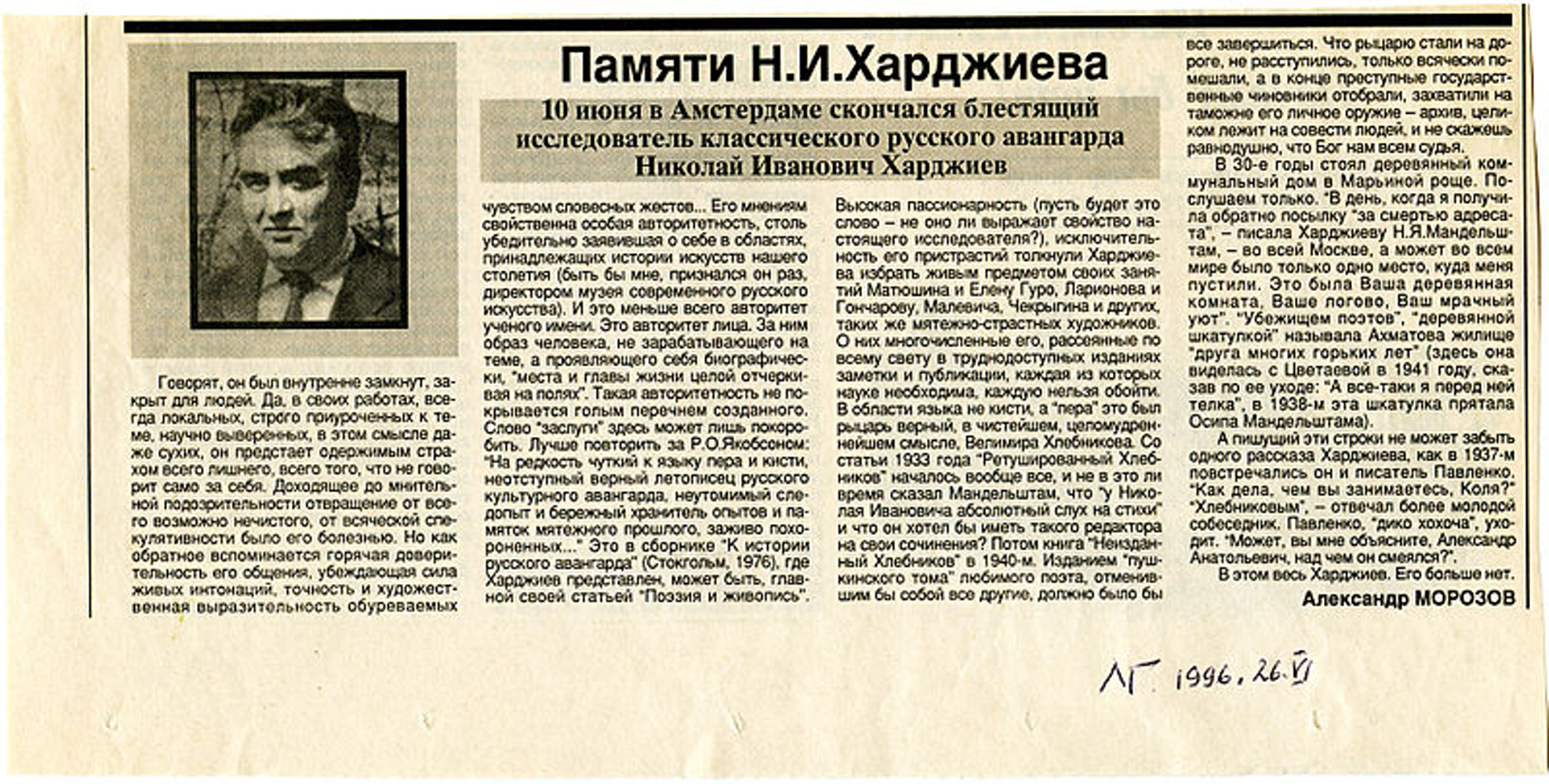









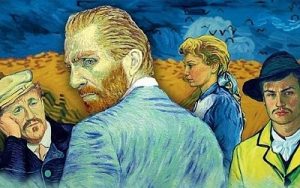
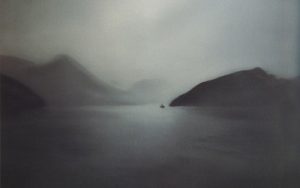
Левон, спасибо, порадовал.
такие милые обаятельные все. кто псих кто алкаш кто с характером и пр. верится сразу. вся русская культура (как впрочем и вся остальная) сплошной серпентарий.
опечатка. Лисицкий издавал журнал «Вещь».