«Профессор Зубов, христиане ли мы?»
 Ровно в 19,30, минута в минуту, на сцену вышел статный, седовласый… хотел было сказать «мужчина»… «человек», но не скажешь…. А скажешь именно, что «профессор». И не спутаешь ни с кем. Ни с конферансье, хотя чем-то А.Зубов похож на Бэлзу, даром что не просто с усами, а еще и с бородкой, ни с… Да ни с кем не спутаешь. Вид истинно профессорский и даже бабочка, ассоциирующаяся, как правило, с миром театра, с артистическим миром, не способна сбить с толку, а напротив, лишь подчеркивает академический вид. В отсутствие мантии и профессорской камилавки.
Ровно в 19,30, минута в минуту, на сцену вышел статный, седовласый… хотел было сказать «мужчина»… «человек», но не скажешь…. А скажешь именно, что «профессор». И не спутаешь ни с кем. Ни с конферансье, хотя чем-то А.Зубов похож на Бэлзу, даром что не просто с усами, а еще и с бородкой, ни с… Да ни с кем не спутаешь. Вид истинно профессорский и даже бабочка, ассоциирующаяся, как правило, с миром театра, с артистическим миром, не способна сбить с толку, а напротив, лишь подчеркивает академический вид. В отсутствие мантии и профессорской камилавки.Позже неподалеку от меня сидевшая Полина Санаева, сотрудница «Независимой газеты», оказавшаяся здесь, правда, не по заданию редакции, а по велению ума и сердца, напишет в «Снобе»: «Андрей Зубов — ученый 21 века, но выглядит так, будто переместился из 19-го. В чистом, незамутненном виде. Настоящий профессор, типа Преображенского, у которого наверняка, не коридор или там «прихожка», а передняя. Который переодевается к обеду, и суп наливает не из кастрюли, а из супницы. И уж конечно не читает за завтраком советских газет».
И еще: «… он вошел, будто на машине времени прилетел. В светлом костюме, белоснежной рубашке, галстуке — БАБОЧКЕ. Бородка (именно профессорская), седина, которую иначе как благородной и не назовешь, легкая курчавость и картавость. Прекрасный цвет лица и легкий румянец. Говорит медленно, с достоинством, с юмором и употребляя выражения вроде «смущение в сердце». И портфель — настоящий, профессорский, а не как у Жванецкого…»
Но это лишь «внешние эффекты», как скажет П.Санаева. Самое интересное началось после того, как профессор раскрыл рот. Вслед за А.Зубовым рты пораскрывали и все остальные, да так, что не закрыли до самого конца лекции. «Почему философию Платона исповедуют сотни, философию Аристотеля тысячи, а религия объединяет миллиарды?»; «Научный, абсолютный, доказанный факт, что религия – это всеобщее явление. Нет и видимо, никогда не было народа без религии. Даже самые примитивные народы, которые не знают земледелия, живут охотой и собирательством – имеют очень развитые, глубокие религиозные знания…»
Желающих ознакомиться полнее с интересным репортажем П.Санаевой «Настоящий профессор» отсылаю по адресу: http://www.snob.ru/profile/28443/blog/77549.
Сам же я по мере развития лекции «опального профессора» сначала вспомнил его недавнее выступление на антивоенном митинге на проспекте имени еще одного профессора – А.Сахарова (см. в Комментариях), а затем все дальше и дальше погружался в мысли, далекие от Истины и Абсолюта, от Вечного, Неизменного и Единого…
Это во времена благополучные неплохо и полезно помыслить и поразмыслить о беспредельном. Во времена же кризисные и поворотные сознание то и дело возвращает тебя на грешную землю. К твоей стране, к твоему народу…
Христиане ли мы? С некоторых пор, а точнее с момента начала «украинских событий» ответ на этот вопрос стал для меня не столь очевиден… Как прежде.
Одним из вопросов, обращенных к профессору Зубову после лекции был такой: «Профессор, вот вы утверждаете, что религиозное чувство не исчезало в русском народе даже в самые мрачные годы сталинского режима. Но так ли это и воистину ли религиозно это чувство? Не произошло ли простой подмены: веры в Бога верой в Ленина, в партию, в Сталина? Одной ли природы та и другая вера?»
Профессор привел цифры, свидетельствующие, что даже в самый разгар репрессий по результатам т.н. «Опальной, или расстрельной переписи» 1937 года около 60% населения СССР подтвердило свой религиозный статус, и объяснил, что вера в Бога и вера в вождя имеют все же разные корни и разную природу.
Зал отозвался одобрительным гулом, кто-то даже пытался аплодировать. В устах профессора, любого настоящего профессора, все и всегда выглядит глубоко логичным и убедительным, особенно с точки зрения аудитории непрофессорского пошиба. Я не выделяю себя из среды общей массы слушателей, но в данном случае осталась какая-то легкая тень недоверия к словам и к выводам А.Зубова.
В течение последующих дней эта «тень» продолжала бродить в закоулках моего сознания и вот, наконец, сегодня ночью явила себя вполне весомой и зрелой плотью. Сначала в форме кощунственного вопроса, а затем – ряда гипотетических предположений.
«А был ли и есть ли русский народ истинно религиозен? Не была ли и не есть ли в данном случае вера в Бога простой верой в идола?»
«И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей. И принесите их ко мне.
И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.
Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!
Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу.
На другой день встали они рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть».
Не вера ли в Бога, но вера истинная, а не напускная развернула колесо европейской истории в сторону рыночной экономики? В сторону свободы, равенства и братства?
Могла ли вера, опять-таки истинная, допускать – и со стороны верхов, и со стороны низов, – то позорное положение фактического рабства, что просуществовало в России до середины 19-го века, а полвека спустя было вновь возрождено и просуществовало уже до конца века 20-го? И не в то ли же самое ярмо ложной веры, в ярмо идолопоклонничества ввергли мы себя уже в веке 21-м?
Я не нахожу положительных ответов на эти вопросы. Напротив, чем больше задумываюсь и анализирую, тем больше убеждаюсь в том, что русский народ истинной веры и веры в истинного Бога никогда не имел, что русский народ – это народ-идолопоклонник, народ-язычник, до которого так и не дошел свет истинной веры.
Только при таком выводе многое становится понятным в русской истории, в истории русского народа. И еще большее становится понятным в его настоящем.
Бог это любовь, как совершенно верно напомнил нам А.Зубов, и это есть основополагающее понятие христианской религии. Где она, эта любовь в русском человеке? Первые же признаки ее легко оборачиваются лютой ненавистью.
На днях мы были на дне рождения в одной семье. Гости пили-ели и все пели дифирамбы хозяевам, не поскупившимся на угощенье. Порой дифирамбы явно преувеличенные, чтобы не сказать – гипертрофированно преувеличенные. Хозяева, интеллигентные и разумные люди, понимая это, лишь иронически улыбались и шутками пытались ограничить гостей в их чрезмерной комплиментарности. Безуспешно. По мере воздействия винных паров те лишь еще пуще расходились. … До тех пор, пока не зашла речь об Украине и не выяснилось, что хозяева не придерживаются общей для большинства точки зрения на эти события. Что тут началось! «Пятая колонна» и «национал-предатели» были, пожалуй, самыми безобидными эпитетами в той брани и ругани, что поднялись вслед за этим. Цунами ненависти и остракизма поднялась и захлестнула и цветущий сад, и загородный дом, оказавшие столь радушный прием этим «патриотам». Та же цунами еще долго преследовала нас по дороге домой.
Также и в отношении властей. Может ли истинно христианский народ столь истово и столь искренне поклоняться тем, кто соткан из одной с тобой плоти и лишь в силу своего положения возвышается над тобой? А уж возвысился явно не в силу своих христианских добродетелей, а скорее наоборот – пороков. Не творишь ли ты сами себе, ежечасно и ежеминутно, новых идолов и кумиров? Не сохраняешь ли веру им десятилетия спустя после их бесславной кончины и не достаешь ли их мощи каждый раз, когда тебе нужно поквитаться с твоими обидчиками – идеологическими противниками? Не творишь ли ты на месте старых кумиров кумиров новых и где при этом твое человеческое достоинство? Как при глумлении над слабым, так и при унижении пред сильным? Где милость к падшим и вера в закон и справедливость? Как вообще ты можешь воспринимать закон не как закон, а как право сильного и как силу?
Нет, не верю я в религиозность русского народа, и даже жертвенность его не может меня в этом убедить. Идолы куда в большей степени, чем боги, требуют от человека жертв, в первую очередь человеческих жертв. Сам же человек, искренне верящий в Бога, куда в большей степени ценит человеческую жизнь – свою и чужую.
Нет в русском народе осознания ценности человеческой жизни, а без этого не может быть ни искренней любви, ни истинной веры в то, что является альфой и омегой, началом всему и концом.
Вместо послесловия. Чем меньше Бога, тем больше бесов. Именно этот феномен всю свою творческую жизнь изучал Достоевский. Такой писатель как Достоевский вообще не мог бы появиться ни в одной другой христианской стране и ни в одном другом христианском народе. А как показывает жизнь – и ни в одном другом нехристианском народе.
Возможно, лишь еврейский народ время от времени рождает нечто подобное – в смысле писательской глубины проникновения в человеческое подсознание. Слишком много горя видел на своем веку этот народ и слишком сильно довлеет над ним древний закон, оттого-то и именуемый «ветхим».
Ветхие, языческие верования довлеют и над русским народом, и чем скорее мы это осознаем и чем скорее обратимся к истинному свету, тем быстрее начнется наше выздоровление и забрезжит надежда на лучшее будущее. И тем дальше отодвинется от нас зияющая пропасть Апокалипсиса…
…Хотелось бы переговорить с профессором Зубовым на все эти темы… На эту тему…

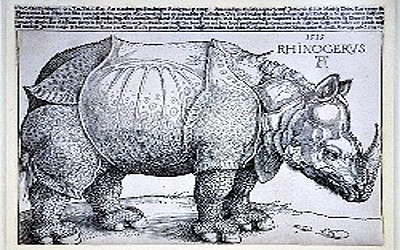
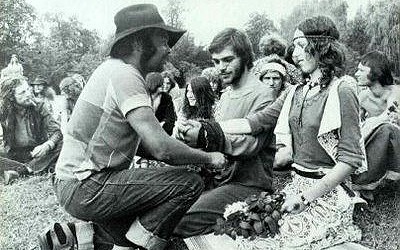


Эээх…. Давно не брал я в руки шашек….
Саша, во-первых, ты совершенно напрасно в этом контексте затронул Фёдора Михайловича. Вряд ли он разделил бы твою позицию. Судя по его письмам и дневниковым записям, по роману «Бесы», упомянутому тобой, он стал бы твоим оппонентом прежде всего в вопросах отношения к России, «великороссам» (закавычила, чтобы ты меня к неандертальцам не отнес, это все Достевский), к Европе…
Это кусочек из «Бесов»:
«Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепру, о крестьянской реформе и прокламациях […..]
Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые всё-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было кто у кого в руках.»
Позиция писателя здесь более чем прозрачна, одно выражение «в этом сброде» чего стоит. Это Ленин видел в России тюрьму народов, а Достоевский провозглашал чуть ли не мессианство России и особенно великороссов:
«…Надобно, чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесповоротно» (это из письма к Майкову).
А вот еще:
«Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой»(из Дневников) — ну чем не мессианство?!
Достоевского деликатно называют почвенником, чтобы избежать грубого «националист» в адрес великого русского писателя.
Перечитала его строки из Дневников о непростых взаимоотношениях России с Европой и не могла не улыбнуться: не вчера ли написаны?
«Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. Но особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до «металла и жупела» московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты. […] все эти освобожденные нами народы тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе всё, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии.»
Согласись, Саша, это риторика твоих оппонентов, не правда ли?
Поспорил бы Достоевский с тобой и по поводу отношения к людям, к человеку. Достоевскому, Саша, как мне кажется, никогда не пришло бы в голову делить людей на «неандертальцев и кроманьонцев», на негодных люмпенов и прогрессивных проевропейцев, на тех, КОГО можно убивать и тех, КОМУ можно убивать. Он «в каторге между между разбойниками отличил наконец людей»:
» Есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото … Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! … На целые томы достанет».
И в конечном итоге Достоевский на твой вопрос давно ответил:
«Разве дух Христов не присутствует в нашем народе — темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская сила.»
P.S. Чтобы меня не ровен час не отнесли к тем самым свинкам, перед которыми не стоит бисер метать (хотя, впрочем, мне не привыкать, буду утешать себя мыслью, что у любимого дитяти много имен:-)), все же оговорюсь, что мой комментарий призван был лишь показать опасность апелляции к классикам без четкого понимания их позиции. Для Достоевского сама мысль разделить русских, украинцев и белорусов была бы кощунством, и бесовским он бы назвал Майдан. Так что, Саша, ты уж поосторожней с Достоевским-то, а то и самого тебя в неандертальцы из кроманьонцев сошлют… У нас ведь это быстро…
Алла, трудно сказать, кого назвал бы бесами Федор Михайлович, царствие ему небесное, доведись ему воскреснуть в наше время. Майдан, конечно да, достаточно погуглить и найти его высказывания о южных славянах. Теперь его многие считают пророком, хотя он писал вовсе не об Украине, а о болгарах и сербах, отношение которых к России остается (дай бог) дружелюбным. Но я думаю, что ФМ назвал бы бесами и тех, по вине которых этот Майдан случился, и тех, кто этот Майдан талантливо раскрутил, да и всех нас, пишущих, тоже заодно
Не знаю, стал бы со мной спорить Достоевский (вряд ли!), но то, что я с ним спорю и его позицию оспариваю это однозначно.
Было время, я не то что боготворил, но очень любил и уважал Достоевского и во многом разделял его взгляды. Но жизнь идет и меняется, меняемся и мы сами. Я не хотел бы прожить жизнь и умереть, оставаясь на позициях Достоевского.
Достоевский в моем понимании остался во мраке – во мраке своих убеждений и заблуждений. Он заглянул в бездну, да так там и остался. На веки вечные. Я тоже туда заглядывал, но смог отвести взгляд и направить его в противоположном направлении. Достоевский – певец подсознания, наиболее темных и сумеречных уголков и закоулков сознания. Я же проповедую надсознание, и в подсознание меня теперь и калачом не заманишь.
Достоевский не перерос национальное самосознание. Я же, считаю, что перерос и обрел ценности выше ценностей национальных. Достоевский в этом смысле ограничен и перифериен.
Достоевский религиозен, но религия не дает ему света. Ни надежды, ни бессмертия. Моя же религия исключительно оптимистична.
Достоевский – фигура глубоко трагичная и несчастная. Меня же можно в чем угодно обвинить, но только не в пессимизме.
А то, что противоречивы мы оба – так ведь это только дурак не противоречив: твердо стоит на раз и навсегда занятой позиции – танком не сдвинешь.
Упомянул же я в своей заметке Достоевского, к ночи, совсем с другой целью. Единственно, чтобы сказать, что мало кому в среде цивилизованных европейцев хочется заглядывать в глубины человеческого подсознания. И тем более там копаться. Ясно ведь, что ничего хорошего там не найдешь и не обретешь. В известном смысле это ассенизаторская функция. Европейцы предпочитают комфортабельные нужники строить, чтобы поменьше сталкиваться с тем. Что заведомо не сулит тебе ничего хорошего…
— Тогда зачем ты к нему апеллируешь и привлекаешь в качестве аргумента?
— Это на уровне подсознания или ты можешь чем-то аргументировать, подтвердить, доказать?
— Здесь у меня два вопроса:
-чем твоя оптимистическая религия отличается от православного христианства, которое исповедовал Ф. М.?
-в каких твоих рассказах, очерках, эссе твой оптимизм можно ощутить?
— западноевропейская литература не гнушалась психоанализа, например, двойничество — одно из его проявлений( Стивенсон «Странная история…», Гессе с его Гарри Геллером, состоявшим из сотен личностей, это навскидку, без углубления.)
— Мне одной эта метафора из серии «в огороде бузина- в Киеве дядька» не ясна?
Нет времени, ни желания втягиваться в новую дискуссию – имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит, желающий понять поймет… Боюсь, что Алла просто не хочет меня понять. Из моих дискуссий с ней можно было бы уже составить небольшой томик. Вот он-то и в состоянии был бы составить основу моей оптимистичной религии, о которой Алла меня спрашивает.
За действительным неимением времени – уезжаем на Байкал – отвечаю телеграфно. И в той же последовательности, что и задаваемые вопросы.
1) Под «бесами» я понимаю глубинные сферы человеческого сознания, куда, — как в ящик Пандоры, — лучше не заглядывать.
2) Достоевский – безрадостен, разве этого не достаточно?
3) Идеализм всегда оптимистичен.
4) Из последних — Приглашение на Акрополь, Ренессанс, Мы не одиноки, Дар, Два шага до счастья… А чего это я? Практически все вещи из «Просветов бытия»
5) Я не сказал «никому», я сказал «мало кому в среде цивилизованных европейцев», т.е. это, конечно, имеет место, но в порядке исключения, а не правила. Это касается как авторов, так и – аудитории, причем этих последних в гораздо большей степени.
6) Ассенизаторская функция – копание в глубинах все того же человеческого сознания. Европейцы, авторы и аудитория, естественно, знают, что эти глубины существуют, равно как и то, что в них водятся «чудовища». Стремление, однако, общее, и у авторов, и у аудитории – глубины не бередить, чудовищ не будить, а напротив, всячески укреплять стены «саркофага» — сознание и культуру…
Пишу, а сам думаю, неблагодарное все же это занятие разжевывать другим свои мысли и свои состояния… Это как предпринять массу усилий, чтобы взмыть в небо… В итоге же взмыть и тут же вместо того, чтобы наслаждаться полетом, начать кому-то долго и нудно объяснять, как ты этого достиг… Как правило, эту функцию берут на себя критики и искусствоведы. Объявляю конкурс на должность штатного интерпретатора своих работ!
И напоследок еще один совет желающим разобраться в основах моей жизненной, оптимистичной, философии: «Не ищите соринок в глазах других. Несомненно, при желании вы их всегда найдете. Но сделает ли это вас счастливее? Если ответ «да», то мне вас по-настоящему жалко. Да и не счастье это, а удовлетворение мелкого эгоистичного тщеславия. Мой совет — выращивайте собственные цветы в своем саду, только они сделают вас по-настоящему счастливыми».
Саша, ну как не позавидовать твоей легкости и уверенности в вынесении приговоров, основанных исключительно на субъективных оценках!
(Это я о том, что Достоевский безрадостен — и песне конец) Это не может не умилить….
Но я все же не стану взывать к твоей тонкости и глубине, горестно всплескивать руками и сокрушаться на тему «ну как же не видеть очевидного?!» Этот комментарий в общем-то даже не для тебя: вряд ли мне удастся тебя не только переубедить, но хотя бы усомниться в своих выводах и определениях; твои убеждения выше критики и святы уже потому, что они ТВОИ. Хотя убеждения ли это, позиция ли, или очередная «фигура речи» — Бог весть…
Но по порядку:
1) Под «бесами» я понимаю глубинные сферы человеческого сознания, куда, — как в ящик Пандоры, — лучше не заглядывать.
Здесь, полагаю, единственно верные слова: «под бесами Я понимаю».
Потому что к Достоевскому, как мне кажется, это не имеет никакого отношения. Здесь Саша скорее говорит о «подсознании» декадентов. Это ведь они заявляли о человеке и человечестве:
Мы плененные звери,
Голосим как умеем…
Достоевский же «в глубинных сферах» всегда видел связь человека с Богом, именно подсознание героев Достоевского вопиет, когда они, предаваясь какой-либо красивой идее спасения человечества, забывают о человечности.
И это не фигура речи. Сны Раскольникова и Мити, видения Ставрогина — это подсознание и это всегда голос совести.
Не «зверь, живущий в темных закоулках души» ведет Раскольникова на убийство, не первобытная безнравственность толкает Ставрогина совратить Матрешу. И тот и другой проверяли на себе действие «теории», полученного знания. Бесы не в глубинах души, они скорее в лукавом мудрствовании, готовым довести любую идею до уровня искреннего, праведного убеждения, которое может оправдать любое преступление против человечности.
2) Достоевский – безрадостен, разве этого не достаточно?
3) Идеализм всегда оптимистичен.
Саша, ну это ведь тоже на уровне ощущений и субъективных оценок, а если задуматься? Раскольников не просто сумел возродиться, очиститься, но и увидеть извращенность своей теории. А Митя, обретший в себе «нового человека»: «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром.»
Это уже не просто радость, это предчувствие бессмертия, вечности, в которых ты Федору Михайловичу отказал ничтоже сумняшеся…. Идеализм, Саша, не в том, чтобы понося всех и вся, призывать громы и молнии на головы неразумных и пугать Апокалипсисом. Он вот в этой трогательной вере Достоевского, что даже в глубинах души проститутки жив Бог, что даже убийца найдет путь к спасению, оперевшись на сохранившийся в подсознании осколок человечности, тоненькой связи с Богом.
5) Я не сказал «никому», я сказал «мало кому в среде европейцев», т.е. это, конечно, имеет место, но в порядке исключения, а не правила. Это касается как авторов, так и – аудитории, причем этих последних в гораздо большей степени.
6) Ассенизаторская функция – копание в глубинах все того же человеческого сознания. Европейцы, авторы и аудитория, естественно, знают, что эти глубины существуют, равно как и то, что в них водятся «чудовища»
Следуя этой логике, самыми комфортабельными должны были быть сортиры в СССР, потому как именно литература социалистического реализма искоренила тему подсознания и тоже пыталась возвести «саркофаг»: и с сознанием было все хорошо и с культурой тоже полный порядок, а тем не менее с туалетами беда.
Пишу, а сама думаю, как же неловко разжевывать хрестоматийные истины…..:-)
Я никоим образом не утверждаю, что мое видение Достоевского единственно верное, и как никто понимаю, что у каждого свой Пушкин, свой Толстой, свой Достоевский. Но при этом любое, даже самое необычное, восприятие должно же быть связано с личность писателя и его произведениями. Побережнее надо с классиками…
Или я слишком старомодна?
Андрей, с последним особенно не могу не согласиться, о нас пишущих и рассуждающих, хотя, как думается, для большинства в этом попытка как-то » определиться» с происходящим, да еще и не получить при этом какой-либо ярлычок, для кого-то — возможность заявить о своих убеждениях. Но и здесь нельзя обойтись без Достоевского, помнится, тоже в дневниках рассуждавшего, почему человеку не должно следовать своим убеждениям: без убеждений каждый знает, что убийство — это смертный грех, убеждения же не только оправдывают убийство, но делают его средством достижения цели. Возможно, цитата не дословно точна, но смыл именно такой.
Действительно, для Достоевского русский, белорус, украинец были «все одно», именно поэтому происходящее сейчас, думаю, ему казалось бы дикостью.
В словах Достоевского о «народе-Богоносце» не больше веры и уверенности, чем в моих сомнениях в христианской сущности русского человека. Это не более, чем фигура речи, чем просто гипотеза и предположение. Чем вопрос… В первую очередь к самому себе. Мне жаль, что Алла, натура тонкая и глубокая, не почувствовала этого…
Мне всегда очень интересно, Саша, на основании чего ты приходишь к своим заключениям? Как мне кажется, любая возникающая оценка должна же от чего-то оттолкнуться, нет? Или это слишком грубо реалистично для тебя? Мне кажется, не стоит выстраивать аргументацию на основании лишь смутных ощущений и тем более подгонять все под свою идею. Твое эссе без упоминания Достоевского — это твоя позиция и только. С ней можно согласиться или не согласиться. Но ты для «фигуры речи» упомянул не к месту Достоевского — возникло недоверие. Я усомнилась в твоей искренности и владении темой вообще. Показалось, что и все твое эссе — всего лишь «фигура речи». Извини?
Хрестоматийно ты, Алла, конечно же, права. Но именно с хрестоматийными истинами мне хотелось бы если и не всегда спорить, то по крайней мере ставить их под сомнение. Сдается мне, что мы живем в эпоху во многом переходного характера, когда прежние ценности вынуждены уступать место новым. И когда же, как не в такое время, выказывать сомнения и выдвигать гипотезы — пытаться прозреть новые горизонты? Я неоднократно говорил, что не претендую на истину и что я крайне, предельно субъективен. И я не даю ответов, дай Бог поставить вопросы!
Из поездки на Байкал я среди прочего привез интересную мысль по поводу споров. Высказанную одним индийским мудрецом. Споры бесполезны, — сказал он, — поскольку ни одна из спорящих сторон не обладает истиной. А обладай они ею, то и спорить бы было не о чем…
Саша, думается мне, что если мы до сих пор не озверели, то только потому что научились жить в соответствии с хрестоматийными, я бы сказала, с хрестоматийнейшими истинами. Мы, как и герои Достоевского, сохраняем в себе человечность только до тех пор, пока не начинаем пересматривать ценность этих самых истин, ставя их под сомнение.
Твоя декларация о том, что ты «перерос» Достоевского, стоит в моем восприятии бок о бок с заявлением, что роман Уортон «Эпоха невинности» выше и нравственнее «Анны Карениной». Возможно, это могло бы быть оригинально, когда бы не было так самонадеянно и так наивно.
В том-то и дело, Алла, что мы звереем, мы катастрофически быстро звереем! /Тебе, наверное, этого просто не видно из-за бугра/ Это-то и заставило меня усомниться в наших христианских корнях. Чего практически никогда не было до этого…
«Перерос» — читай «ушел в сторону», «сменил направление». Неужели ты действительно думаешь, что я способен поставить себя выше Достоевского?
То же самое и в отношении двух романов и этих двух авторов — я не настолько наивен, чтобы их сравнивать. Сравнивал я не романы, а — концепции понимания чувства долга и ответственности.Даже в его узком, «кастовом» или,как сказали бы сейчас, «корпоративном» смысле.
Ругаю лишь себя — за то, что изъясняюсь недостаточно четко и тем самым, как видно,даю повод для неверных интерпретаций. Но и ты тоже,пожалуйста, — не сужай уж меня и не уплощай чрезмерно…
Спасибо, Саша. Конечно, использование слов в несвойственном им значении объясняет многое и многих, думаю, может сбить с толку.
На статью А.Ципко в «Независимой газете» от 10 октября с.г. http://www.ng.ru/ideas/2017-10-05/5_7088_putin.html
Из статьи А.Ципко следует непреложный вывод, который сам он почему-то предпочитает не делать. Он вплотную подходит и нас вплотную подводит к нему, но сам напрямую не делает его. Не ставит диагноз.
Вывод этот о раздвоенности русской души, в которой до поры до времени способны уживаться две силы — сила Божеская и сила сатанинская, но в итоге, в поворотные моменты истории, всегда побеждает сила сатанинская.
Добро в душе русского человека всегда абстрактно, в то время как зло, творимое им, предметно конкретно: оно превращается в реальную кровь и в реальные слезы.
Это видел и знал столь часто цитируемый автором Ф.Достоевский. Утопические планы Раскольникова: план общий и футурологический – абстрактны, зло же, сотворенное им, реально и осязаемо. Утопические грезы и топор; и мгновенно первые превращаются в дым, а второй – в кровь, в том числе и невинного, «божьего», человека.
Страшный писатель этот Достоевский, но бесконечно справедливый. И честный. В отношении собственной души и души народной. Провидец! Ведь образ Раскольникова, скажем, разве это не образ всего русского народа, а совершенное Раскольниковым на страницах романа, разве это не то, что совершил полвека спустя русский народ, но уже в реальной жизни и в общенациональном масштабе?
Вот только раскаяния почему-то до сих пор не возникает. Здесь великий писатель и провидец, похоже, промахнулся. Впал и сам в розовые грезы. Или просто не дописал роман… Потому что тогда, в дописанной его части, было бы, что Раскольников раскаялся — да, но не до конца и лишь на какое-то время. Как мы – русские и постсоветские в 90-е годы: ведь мы же вроде как раскаялись и вынесли приговор сталинизму. К Богу вернулись… Но надолго ли? – Нет, лишь до первого инквизитора и антихриста, который расстелил перед нами скатерть-самобранку. Даже не саму скатерть, а лишь видимость ее, которая ныне – и нескольких лет не прошло – улетучивается со скоростью звука. Но и это нас не смущает: призрак благополучия, мы легко меняем его на суровую действительность ненависти и агрессии. Сатана вновь легко побеждает Бога в нашей душе. И рука вновь уверенно тянется к топору, а другая – роняет крест.
Еще пару лет назад я задавался вопросом: христианский ли мы, русские, народ? Сегодня я на полном серьезе спрашиваю: а не сатанинский ли?