«Сегодня исполнилось бы 75 лет Владимиру Высоцкому. Россия — страна крайностей, и насколько Высоцкого, при жизни, власти, а, следовательно, и средства массовой информации не любили и всячески замалчивали, настолько теперь, после его смерти, полюбили и растиражировали.
Время летит стремительно, и такое ощущение, что чествования Высоцкого уже не прекращаются круглый год: фильмы, концерты, воспоминания… Тьфу, аж противно. Самого Высоцкого на них нету, уж он бы им задал жару! Особенно при нынешней, пусть и ублюдочной свободе…
Но неожиданно свалившийся нам на голову рассказик от Семена Каминского, к которому все вышесказанное не относится, ибо он живет за океаном и не подвергается ежедневной «пытке Высоцким», нам понравился. Понравился, поскольку в полной мере возрождает дух того времени и то нежное отношение к Высоцкому, которое все мы испытывали: от мала до велика.
Как если бы забронзовелый и уродливый герой нашего детства и отрочества, мимо которого проходишь каждый день и на который уже не обращаешь внимания, вдруг хитро тебе подмигнул и для пущей убедительности прохрипел: «Только все это не по мне! Но парус, порвали парус!» А ты ему в ответ и вместе с ним: «Каюсь, каюсь, каюсь…»
Александр Бабков.
Семён Каминский
Как Владимир Семенович спасал нас

иллюстрация Андрея Рабодзеенко
Конец шестидесятых. Длинные волосы, брюки из хлопка с лавсаном со строго измеряемым клёшем (25 сантиметров, не меньше!), семиструнные гитары и Высоцкий. Моя гитара (Черниговская музыкальная фабрика, 12 руб. 50 коп) достаётся мне по огромному блату («от дяди Иосифа»), она тяжёлая, тёмно-красная с жёлтым подпалом. Гриф ужасно неудобный, струны стоят высоко и прижимать их трудно, но неожиданно оказывается, что его можно поднять повыше просто с помощью ключа от больших чёрных часов, стоящих на секретере в гостиной. Вместо обычных металлических струн вскоре удаётся раздобыть нейлоновые – это тоже большой дефицит. Я холю гитару – зачем-то натираю вязкой, крепко пахнущей полиролью для дерева, найденной у мамы в кладовке, борясь таким образом с существующими и несуществующими царапинами на её прекрасных боках. Я не расстаюсь с ней почти никогда, даже таскаю за собой в школу, но не днём, а на внеклассные посиделки. Уже выучены пять «главных» аккордов – «звёздочек» в ре-миноре и несколько вариантов «боя» правой рукой. Высоцкий с бобин заучен в страшном количестве, песен двести, не меньше. Всем нравится, и я всегда и везде в центре внимания, причём взрослые, на удивление, принимают такое пение с не меньшим энтузиазмом, чем мои ровесники. Это внимание окружающих к себе сильнее и приятнее даже портвейна и сигарет, уже неоднократно опробованных, поэтому дурные привычки совершенно ко мне не прилипают. Только шальные песни, жёсткие мозоли на пальцах, хрипловатый, иногда действительно немного сорванный голос – знаете, под кого.
Осень, везде на улицах города – плакаты «Всесоюзная перепись населения», а мы каждый вечер бродим с гитарой и моим другом Витькой из соседнего двора по этим улицам, скверам и набережной Днепра. Я умудряюсь орать песни даже на ходу, он совершенно не умеет играть, но что-то восторженно подпевает. И – ощущение постоянно приподнятого настроения…
Однажды мы сидим с ним на скамейке, среди ивняка, в глубине широкой зелёной посадки на набережной. Скамейка эта должна была чинно стоять на аллее перед речным парапетом, но кто-то её сюда, в укромное место, до нас перетащил, и постаралась, видимо, большая компания: скамейка тяжёлая, деревянная, белая с чёрными изогнутыми чугунными ножками и такими же боковыми опорами. Почти стемнело, и нас накрывают уютные тени, а перед нами у реки – неяркий голубоватый свет редких высоких фонарей на бетонных столбах. Я что-то наигрываю.
Неожиданно из-за деревьев выходит группа крепких парней, гораздо старше нас, блатного вида, навеселе и явно ищущих развлечений. Их пятеро, но кажется, что десять. Они быстро окружают нашу скамейку, и один из них, главный, в фуражке и с приподнятой толстой верхней губой, начинает приставать к Витьке с вопросами. Дело пахнет очень серьёзным мордобитием, к тому же Витька – резкий и вспыльчивый – хотя испугался не меньше моего, но уже насупился и вот-вот скажет что-то поперёк. А вокруг, на набережной – ни души, так что, похоже, мы влипли с нашей любовью к вечерним прогулкам в рискованных местах. Убить, возможно, и не убьют, но покалечить могут крепко, тем более что боец среди нас только Витька, а я – хилый очкарик, освобождённый от «физры» ещё с 5-го класса по причине шумов в сердце (был тогда такой популярный детский диагноз). И сейчас сердце это бешено колотится где-то в конечностях, с шумом или без – я уже не знаю, но чувство полнейшей нереальности нарастает.
Тут вожак замечает гитару на моих коленях и снисходительно говорит:
– А ну, сделай нам что-нибудь…
И я делаю. Я не знаю, что он ожидал, но я, сам себе удивляясь, не забыв ни одного слова и как бы даже спокойным голосом (по крайней мере, мне так кажется), пою:
В тот вечер я не пил, не пел,
Я на неё вовсю смотрел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Но тот, кто раньше с нею был…
Я пою «Нинку», «У тебя глаза, как нож», «За меня невеста отрыдает честно» и ещё две-три песни. Наше окружение как-то обмякает, расслабляется. Они постепенно рассаживаются вокруг на траве и на скамейке и слушают очень тихо, не перебивая ни словом, ни резким движением. Вожак вытаскивает из внутреннего кармана куртки начатую бутылку какого-то вина и говорит, обращаясь только ко мне, уважительно:
– Будешь?
Я вежливо отказываюсь и, почувствовав момент, встаю:
– Мы пойдём…
Они совершенно спокойно говорят нам «пока» – почти все, по очереди, и мы, как бы не спеша, ретируемся сначала на освещённую аллею, затем, чуть быстрее, переходим через дорогу – к магазинам, к людным улицам. Мы идём всё быстрее и быстрее, почти бежим, и только через несколько кварталов Витька останавливается – и говорит, говорит мне что-то восторженное. А я и так знаю, что я – большой молодец. Впрочем, не только я. И даже совсем не я – Владимир Семёнович…
И всё ещё в диком восторге от неожиданного спасения и от себя самого, я останавливаюсь на перекрёстке возле одного из плакатов про перепись, на ходу придумываю нечто каламбурное, задиристо-матерное и такое же бессмысленное, как этот плакат, и тут же громко декламирую, к новому восторгу своего приятеля:
Скоро будет пере-пись!
Красота – хоть за…бись!
Чикаго, 2006-2012


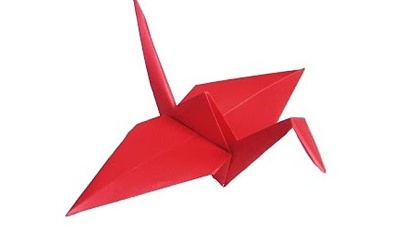


Спасибо за живое, человеческое слово о Высоцком! Сейчас, увы, нет, наверное, ни одного имени, могущего объединить людей из разных миров, имени, одно упоминание которого для любого человека звучало бы, как заклинание «мы с тобой одной крови, ты и я». Или я ошибаюсь?
На своё 14-летие я выпросил у родителей в качестве подарка (царского по тем временам) ленинградскую семиструнку, как сейчас помню, за 7 руб. 50 коп. Одну струну просто снимали и гитара превращалась в шестиструнную. Непреодолимое желание иметь гитару совпало, по-видимому, с двумя обстоятельствами. Во-первых, с усилившимися признаками полового созревания и, как следствие, пониманием значения роли исполнительского творчества в привлечении интереса противоположного пола. Во-вторых, и в не меньшей степени первыми соприкосновениями с Высоцким у моих московских бабушки с дедушкой, у которых уже был в то время ленточный магнитофон, собственно, других-то и не было.
Все это происходило приблизительно так: после школы я брал, подаренную мне гитару и ехал на электричке из Лосинки до Москвы, как мы тогда говорили, оттуда по Садовому на «Бэшке» до улицы Красина, ну и дальше пешком до Тишинки. Бабушка не очень радовалась моим приходам, потому что думала, что я рано или поздно сломаю магнитофон, который я мучил нещадно, а именно, ставил в начало какую-то песню, брал бумагу и карандаш и пытался записать слова, поскольку магнитофонные записи не были идеальными, слова разобрать было очень трудно и для этого приходилось перематывать с жуткими звуками пленку назад и так многократно. После того, как все слова были разобраны (или домысленны) и записаны, в ход шла гитара и попытки подбора аккордов, которых к тому времени я уже штуки четыре знал, — мучение магнитофона под ворчание бабушки продолжалось нон-стоп…
Одной из первых песен, которую я «разобрал», почему-то была «Товарищ Сталин» (Товарищ Сталин, Вы большой ученный…). Это уже гораздо позже я узнал, что слова и музыка этой песни были написаны не Высоцким, а Алешковским…
Спасибо за рассказ.
Почувствовал время. Сразу стали приходить в голову разные дворовые истории.
К счастью проспект Мира (в районе метро Щербаковская), где прошла моя юность, место было достаточно спокойное.
К юбилею.
Впервые увидел в десятом классе, в «Гамлете».
Затем два творческих вечера и возможно в «Десяти днях которые потрясли мир»
(этот спектакль плохо помню).
Ну а песни, это наверное был класс пятый или шестой.
Нравились. И хотя на гитаре (из-за полной неспособности) не подбирал, но слова знал.
У одного из моих школьных друзей, все родные мужского пола, профессионально защищали родину, там где нужно. Качественные записи концертов для этой аудитории я сначала слушал, а затем и переписал (когда у меня появилась такая возможность). Но курсу к третьему (плёнка была в дефиците) всё потёр.
Конечно как миниум одна песня (вставленная Стругацкими в свою повесть) мне нравится и сейчас.
Но к сожалению, при всём желании (лукавлю), понимание его творчества мне не доступно.
Галича и Окуджаву понимаю, а тут нет. Не судьба.
И вот ещё товарищ у него был Станислав Говорухин, и образ такой яркий — Жеглов.
Боюсь, что не всё мне (нам?) сейчас понравилось бы без бронзы.