Мужчина и женщины
Мужчина и женщины.
Рассказ.
Посвящается С.+ Л.
Часть первая.
Своё счастье Люба выходила. Да-да, именно так, — выходила, вымаршировала, печатая шаг большими, загребающими внутрь ступнями в нелепых сандалиях, обутых на мужские носки. Каждый день, рано утром, появлялась она у длинной дясятиподъездной пятиэтажки на краю чудом не застроенного поля с небольшим лесочком, сбегавшим в овраг. С отчаянной решимостью толкала перед собой коляску , где синела лента на завернутом кульком одеяле. Время от времени из коляски доносились кряхтение и плач, и тогда Люба усаживалась на скамейку, всегда одну и ту же, деловито доставала большую, тяжёлую грудь, ополаскивала ее небрежно водой из бутылки и совала в рот плачущему ребёнку тёмный, почти чёрный сосок, брызжущий густым жирным молоком. Плач прекращался, и раздавалось энергичное чмоканье и фырканье. Затем экскаватор Любиных рук подхватывал ребёнка с колен, переносил его в коляску, и маршировка продолжалась.
Сидящие кучками и порознь пенсионерки, хоть и обратили внимание на странную мамашу, с утра до вечера дефилирующую от первого до десятого подъезда и обратно, задумались не сразу, не вдруг озадачились тайной Любиного появления, но, озадачившись, уже не упускали ни одного движения диковатой в своей нелепости женщины, остервенело толкавшей перед собой коляску с новорожденным младенцем.
Увлекшиеся чужой тайной престарелые дамы с резвостью своих внуков скатывались, теряя тапки, по лестнице, шустро рассаживались в первых рядах лавочек и, не отрывая глаз от неистово марширующей Любы, чуть наклоняя голову к товаркам, изроняли время от времени предположения, одно чудовищнее другого.
Вдумчиво-наблюдательным партером было подмечено, что «гренадерша» с младенцем появляется в час отъезда немногочисленных владельцев машин на работу, а исчезает через некоторое время по их возвращении после трудового дня. Зрители же балконов установили, что мамаша с коляской чуть не бегом направляется к старенькой «Волге» из 6 подъезда, чтобы непременно оказаться на пути ее владельца, Миши Лемешева, в то время как сам Миша, всеми силами стремясь этого пересечения избежать, укрывается в подъезде, порой переходя на рысь. Иногда Любе удавалось оказаться и будто бы замешкаться на пути у Миши, но все же чаще он оказывался проворнее.
Домыслы и догадки досужих бабулек сыпались как из рога изобилия, наполняя жизнь многолюдного двора в отсутствии «Санта Барбары» смыслом и жгучим интересом.
* * *
Люба была начисто лишена какой-либо привлекательности. Во всех ее положительных качествах обязательно таились какие-то «но»: она была высокой, но бесформенной, громоздкой, при этом без соблазнительных округлостей, столь прельстительных в женщинах весомых достоинств; глаза могли бы быть красивы, но чрезмерно увеличивались толстыми стёклами очков. Волосы были густыми, но не знали надлежащего ухода и никогда не были украшением крупных, грубовато вылепленных черт лица.
И если красивая женщина — это профессия, как утверждал поэт, то и быть некрасивой, сознавая это, тоже вырабатывает некоторые навыки.
Мужчины не влюблялись в неё, и она научилась быть им приятельницей, своим парнем. Это помогало купировать открытые выпады, но ранений по касательной или рикошетом избегать не удавалось:
— Классная, да? — с восторгом провожая взглядом проходящую красотку, обращался к ней «приятель», не замечая замешательства и красных пятен на лице «своего парня».
Зато Люба не боялась старости, больше того, ждала ее со злорадством. С тайным мстительным наслаждение думала она о том, с каким ужасом красавицы будут отмечать увядание, как тяжело им будет лишиться постоянного внимания, провожающих взглядов и невольных восторгов, которые, как казалось Любе, расцвечивают жизнь избранниц, ничем этого избранничества не заслуживших.
Люба буквально подвернулась Мише.
Он тогда переживал очередной кризис отношений. И от тоски и безысходности, а отчасти боясь, что не выдержит паузы и отлучения и сделает предложение настойчивой девушке — нет, девушка была хороша, и Мише нравилась… пожалуй, даже больше, чем нравилась, но вот давления он не переносил, да и в браке чувствовалась ему смутная угроза,- вот от всего этого и отправился Миша вместе со своим отделом под Раменское «на картошку».
Сентябрь выдался по-летнему тёплым, с летящей по солнцу паутиной, кораллово-апельсинными закатами и на удивление нежными ночами.
Несколько дней Миша сотрясался на тракторном прицепе, принимая мешки, но тяжёлая работа на солнце, в полях, окружённых исподволь желтеющими и багровеющими лесами, под выгоревшим к осени безоблачным небом глушила страхи и предчувствия, тоска унималась, переставала тревожить, снова уползала в тёмные закоулки Мишиной души.
На рассветах, откидывая полы палатки, которую привёз с собой (бодрствовать в коллективе мог, но спать предпочитал все же в приватных условиях), чувствуя приятную тяжёлую истому в мышцах, потягивался и с тихой мечтательной радостью смотрел на густой туман, выстилавший поля, на тронутые желтоватой сединой ветви, листья
которых по утрам уже покрывала холодная предсмертная испарина. Время от времени от ветки отрывался лист и, кружась, неспешно, словно паучок на нитке, с опасливостью первопроходца спускался к земле. Было так тихо, что Миша слышал, как пожухлая трава с шорохом расступалась, принимая в свои объятия гостя из поднебесья. И было в этом листе и в этом падении бесхитростное доверие законам Вселенной, безропотная покорность им. Никакой собственной воли, никакого собственного выбора. Был лишь неотвратимый природный ритм, простой, понятный и правильный. Он подчинял себе и человеческую жизнь, без усилий заглушая трагические аккорды бытия.
В последний день своей работы Миша уже по-приятельски, как заправский сельский житель, болтал с трактористом, когда они устраивали перекур, сидя на прицепе и откинувшись на бугристые мешки с картошкой, картофелины давили в ребра, но держать спину было утомительно.
Тракторист, молодой улыбчивый парень, по-детски болтал ногами в тяжёлых сапогах, радовался погожему дню, хорошему урожаю, возможности поболтать с городским парнем, как-то более внимательным к нему сегодня.
Он рассказывал, что недавно вернулся из армии, что женился сразу, и было видно, что и в его жизни все ему нравится:
-А чего мудрить-то, верно? -обращался он к Мише, с удивлением слушавшим его незамысловатый рассказ. — Вот ты женат?
— Я? — вдруг растерялся Миша.- Нееет…
— Разведён? — предположил парень, определив Мишин возраст.
— Да нет,- засмеялся Миша,- просто не успел ещё.
— Бл-ун, что ли ?! — радостно смеясь, парень указательным пальцем поднял замасленный козырёк своей фуражки и все с тем же детским восторженным любопытством заглянул в лицо Миши, словно впервые в жизни видел этого самого «бл-уна» и теперь хотел его разглядеть получше.
Миша засмеялся, ещё более укрепив парня в его предположении:
— Не, шалишь, раз к тридцатнику не женат, значит, бл-ун! — уверенно и весело констатировал тракторист.
И лёгкость, с которой произнёс он это бранное слово и то, как уверенно расставил акценты в Мишиной жизни, и отсутствие не только сомнений, но и осуждения, — все это едва ли не потрясло Мишу. Ему вспомнилась доверчивая покорность кружащегося в падении листа.
— А почему бы нет?! — то ли парню, то ли самому себе ответил Миша и тоже засмеялся. — Да! Мудрить не надо!
Мишу вдруг кольнула неприятная мысль, что в сущности между ним, человеком творческим, и этим простецким в своём юном веселье трактористом нет никакой разницы. Да, они в разных кругах, но существование внутри этих кругов было одинаковым: так же безропотно следовал он своей судьбе, не им себе предначертанной. Архитектурный институт был предопределён: отец работал в мастерской Весниных, и как-то ясно было, что Миша продолжит дело отца; он и работать после института пошёл бы в ту же мастерскую, но за пару месяцев до защиты столкнулся нос к носу с неким Юрием, еще недавно работавшим под началом Мишиного отца в мастерской, где Миша с ним и познакомился. Молодой, талантливый и вместе с тем очень пробивной парень, один из тех, кто высоко и ярко взлетают, но быстро падают. За такими следуют с восторгом, пока они обеспечивают продвижение вперёд и выше, а потом предают с тем же энтузиазмом.
Юрий, увидев Мишу, взмахнул руками, схватил его за плечи, потряс немного. Видно было, что эта встреча обрадовала его:
— Миха! Привет! Слушай, ты ведь скоро заканчиваешь?
— Да, защита в июне, — удивляясь радости и любопытству своего собеседника, ответил Миша.
— Чувак! Такое дело! Я тут вроде как шишка в одной крутой конторе (он назвал очень серьёзную по тем временам областную организацию), ну, и хотелось бы свою команду, а твой папахен меня, можно сказать, на ноги поставил и в люди вывел! Должность — так себе пока! Но! В отделе внешних связей! С биографией у тебя порядок! Отец — личность уважаемая. Живёшь рядом, опять же! Вы ведь все там же? В Видном? Да и что тебе в мастерской делать? Сейчас даже хрущоб не строят, не говоря уже об остальном! А у меня будешь по конкурсам, семинарам и конференциям разъезжать, а потом доносить до нас светоч Западной мысли. А? Неплохо, да?!
Предложение, действительно, было фантастическим… и вот так, на улице…
«Что за ерунда, фигня какая-то! — недоверчиво подумал Миша. — Пьян что ли?!»
Но Юрий был не пьян, восторженность и даже неистовость была следствием его влюбленности в архитектуру, в жизнь, в женщин, во всё, с чем ему приходилось сталкиваться.
— Слушай, старик, у меня там есть свой человек, связи кое-какие… так что все прокатит, не сомневайся!
«Свой человек» мог понадобиться: напрямую пятый пункт Мише Лемешеву не грозил, но нет-нет да всплывала при внимательном рассмотрении анкеты Мишина мать, Лемешева Этель Моисеевна, русская, — так что связи были не лишними.
И ведь, действительно, «прокатило». Так Миша попал в отдел внешних связей, даже в загранкомандировки ездил поначалу, захлебываясь от восторга, что может собственными глазами увидеть то, о чем читал, но потом средств стало меньше и поездки сошли на нет. Так и получилось, что, обладая творческой профессией, Миша погрузился в бумажную унылую рутину.
Но и тогда он не предпринял ничего, чтобы разорвать круг: перемен и суеты, с ними связанной, он страшился больше, чем уныния и скуки.
«А вот и отличие!- с насмешкой подумал Миша, искоса глядя на улыбающееся лицо деревенского парня. — Это вольное дитя колхозных полей не пытается ничего изменить, потому что всем довольно! А я буду изнывать, стонать и жаловаться, но не позволю даже папку на моем столе сдвинуть на сантиметр! И ведь так во всем! Буду ждать, пока само как-то рассосётся, разрешится, образуется…»
На прощальные посиделки Миша пришёл с опозданием, когда огромный костёр вовсю полыхал прямо на поле, где ещё утром убирали картошку. Прощались с деревенской вольницей, свежим воздухом, с тоской думали о возвращении в душную безликую «контору», к бестолковой суете так тщательно спланированных дел. С другой стороны, уже хотелось благ цивилизации: горячего душа, прогулок по многолюдным освещенным улицам, театров, кино…
Ах, какой волшебной, какой колдовской была эта ночь! Алмазно сияли в чёрной вышине равнодушные звёзды, чьей-то щедрой рукой разбросанные по небу. Воздух был чист, свеж и хрустально звонок.
Деревья чёрной плотной толпой окружили поляну в ожидании непременного чуда, завороженно смотрели на пылающие в жертвенном костре тела своих собратьев.
Огонь, крадучись подползал к отсыревшим поленьям, лизал их синими языками, а потом торжествующе разгорался, метался, словно в сатанинском танце, отступал, оставив мерцающую ещё некоторое время, но уже бесполезную для его неукротимой страсти почерневшую плоть, и набрасывался на следующую порцию. Заходясь в своём могуществе, плевал в высокое тёмное небо снопами искр, но звезды с презрительным любопытством взирали на эту смешную возню такой пламенной, но такой скоротечной страсти. Проворный костровой, в стёклах очков которого полыхали отблески костра, с растрепавшимися от горячего ветра волосами, красным лицом, с нечеловеческой виртуозностью шаманил у костра, шуровал длинным колом в огне, пламя огрызалось и снова плевалось искрами.
Миша опустился на место, которое ему освободили, его сразу обдало жаром, оглушило смехом, гулом голосов, уханьем и кряканьем кострового. Справа к Мише протянулась рука со стаканом деревенского первача, раздобытого кем-то в деревне. Миша выпил залпом, морщась от отвращения. Крепость была такая, что перехватило дыхание и навернулись слезы. Он невольно поднял голову и замер…
Небо, зовущей чернотой, опрокинулось над ним, колючие лучи звёзд дрожали в его глазах.
«Вот они, единство и борьба противоположностей: вечное небо с холодными звёздами и трескучая суета человеческих страстей, от которой завтра поутру останутся лишь прогоревшие головешки. Ты рвёшься к Вечности, хочешь чувствовать себя равным Вселенной, но греет тебя не холодный мрак предназначения, а кипение страстей»,- расфилософствовался вдруг Миша.
Надо сказать, пил он редко, пьянел быстро, становился мягким и покладистым, любовь и жалость переполняли душу, мысли, как песочек на отмели, подчиняясь переливам настроения, постоянно перекатывались с места на место, не уходя на глубину.
«Да и попробуй разберись, чего хочет от тебя эта тёмная высь, манящая отдалённым светом непреложных истин,»- продолжил было мудрствовать Михаил, все так же запрокинув голову, вглядываясь в звездную черноту. Как вдруг, словно возражая ему, одна из звёзд оторвалась от бархата ночи и устремилась вниз. Взгляд Миши, недоверчиво следивший за светящимся прочерком, неожиданно наткнулся на обращённое к нему лицо молоденькой девушки, совсем недавно появившейся у них в отделе. Надо сказать, высшие силы сработали в этот раз на совесть: девушка была диво как хороша, особенно глаза, искренние, чистые, лучащиеся, вполне себе сравнимые со звёздами, но тёплые и такие близкие. Миша зачарованно смотрел на это чудо, сотворенное лично для него. Наконец, осознав это окончательно, Миша вознамерился подойти поближе, уже встал, почувствовав, как чуть качнулась земля под ногами (тоже колдовство или все же первач?). Девушка сразу поняла его намерения: доверчивая улыбка чуть тронула уголки губ. Она даже подвинулась немного, освобождая место для Миши. Но кто же не знает, что на пути к счастью, обещанному тебе самой Вечностью, обязательно встретят тебя искушения, и только устояв и не поддавшись, ты обретаешь блаженство. И вот здесь-то и случилась с Мишей обтрушечка. Встав, Миша сделал было шаг, но онемевшая от неудобного положения нога предательски подогнулась, земля снова слегка качнулась, и, чтобы смягчить падение, Миша выставил руку назад и в сторону, оперся на что-то и грузно сел.
— Мишаня, да ты у нас морально нестоек, — засмеялся сосед справа.
Но Миша не ответил, он только сейчас обнаружил, что его ладонь покоится на чьей-то коленке, судя по бриджам, лоснящейся коже и форме, — женской. Не убирая руки, Миша обернулся и вздрогнул: увидел лицо, на котором вместо глаз полыхало отраженное очками пламя.
Люба (а это была она) впервые в жизни чувствовала столь интимное прикосновение мужской руки и замерла, боясь прервать это блаженное, будоражащее душу ощущение близости (хотя, следует признать, в этом случае слово «душа», скорее, евфемизм). И вот уже глубинное чутьё заставило Любу как можно медленнее снять очки и улыбнуться Мише. И как хотите, но здесь тоже не обошлось без ворожбы и магии: иначе откуда Любино женское могло знать, что Мишино мужское питало глубочайшую слабость именно к этому сексуально-ритуальному для него движению, когда девушка снимает очки, лишая себя последней преграды между беззащитной ею и всепобеждающим натиском страсти.
Увлекаемый новой эмоциональной волной, песочек Мишиных мыслей уже струился в ином направлении, противоположном от пути, предначертанного небом:
— Люба, — с трудом вспомнил он имя копировщицы, — у вас исключительно круглые коленки… Надеюсь, я вас не очень напугал,
и спасибо за поддержку,- все это Миша говорил, не переставая наглаживать Любино колено, будто и правда поражаясь его форме, и наблюдая, как все больше и больше туманятся Любины глаза и подрагивают пересохшие вдруг губы.
И только на минуту пронеслось в Мишиной памяти воспоминание о девушке-звезде, ждущей его неподалёку, он даже отважился взглянуть в её сторону, но не нашёл, не различил среди прочих: ибо душа его утратила связь с Вечностью.
«Придумал себе бог знает что, романтик хренов, — подумал он и снова обратился к Любе, пытаясь шутовством заглушить возникшее неприятное чувство утраты, — Люба, а не хотится ль вам пройтиться?»
В это время то ли трухлявое полено бросили в костёр, то ли ещё что случилось, но костёр задымил, все стали перебираться ближе к наветренной стороне. Воспользовавшись этим замешательством (а тут уж точно не обошлось без нечистого), Миша и Люба нырнули в лесок.
Так что по-другому и не скажешь: Люба Мише именно подвернулась.
Наутро, уже проснувшись, но ещё не открывая глаз, Миша попытался определить, в палатке ли Люба. Затаил дыхание, прислушался, с осторожностью сапера пошарил рукой — рядом была спасительная пустота. Только тогда Миша с облегчением сделал выдох и открыл глаза. Произошедшее вчера было мутным и расплывчатым, с многочисленными обрывами, как снятое на пленку Шосткинского комбината кино.
— Вот идиот!- вслух вынес себе приговор Миша.
При этом основанием для приговора было не само деяние, а его объект. И не потому, что они работали в одном отделе, но потому, что это была Люба, Любахен, «унисекс», «ни кожи ни рожи».
— Надо же так вляпаться..,- продолжал корить себя Миша, предвкушая недоумение и насмешливые замечания коллег. Несколько обнадёживало отсутствие Любы:
— Может, хоть не дура, — тоскливо подумал Миша, отчаянно желая, чтобы так оно и было.
Дурой Люба не была, именно поэтому она тихо исчезла из Мишиной палатки: выработанный навык избегать любых ранений был доведён до виртуозности. Кроме того, произошедшее нежданно-негаданно этой ночью было таким потрясением для Любы, что ей надо было пережить все одной, осмыслить как-то новую свою сущность. Хотелось свернуться калачиком под одеялом (ничего более укромного нельзя было найти в отведённой для «девичьей» ночёвки каморке, с тесно стоящими раскладушками). Для таких потрясений как раз и нужны подружки, но подруг у Любы не было…
В безлюдной «девичьей» Люба нырнула под одеяло и там только то ли от восторга, то ли от жалости к себе совсем по-женски разревелась… Затихала, успокаивалась, но уловив Мишин запах на своей коже, снова заливалась слезами счастья и обиды.
Затаилась и замерла только когда вернулись пропахшие костром, разгоряченные вином и флиртом дамы. Вошли шумно, смеясь, но увидев Любу под одеялом, перешли на шёпот:
— Ой, девочки, тише! Любахен-то наш уже спит!
— Да? А мне показалось она с Лемешевым ушла.
— С ума сошла? Миша и Любахен! — засмеялся кто-то.
«Господи, как это выдержать? Как?!»- с отчаянием думала Люба, боясь себя выдать. Ей казалось, что ее раскладушку сотрясают удары сердца, а спина вздрагивает под одеялом от едва сдерживаемых беззвучных рыданий.
Наконец все заснули. Заснула и Люба.
В страшном, странном, мистическом сне Люба увидела… крик, именно увидела, хотя и услышала тоже. Это она сама, вся, до последнего атома, обратилась в этот нечеловеческой силы вопль. Он донёсся до чёрного неба, нет, выше неба, потому что ставшая криком Люба видела рядом с собой планеты и звезды; это им в своём вселенском гневе, обиде и протесте кричала она, кричала так, что плоти ее уже и не осталось и нечем было кричать, а чудовищный звук все рвался и рвался к равнодушному холоду Вселенной, требуя ответа. Но ответом было ледяное, чёрное безмолвие Бесконечности. Лишь несколько слишком субтильных звёзд отлетело подальше, чтобы оградить свою безмятежность.
Часть вторая.
Миша недолго посыпал голову пеплом. Во-первых, он умел договариваться с самим собой, во-вторых, как-то сразу много всего навалилось: попросили провести пару лекций (одну для молодых архитекторов Москвы и области в рамках конкурса, вторую — для студентов), подвернулся перевод одной любопытной архитектурной монографии, а позже Юрий, бдительно державший его под недреманным оком, решил включить его в работу над каким-то проектом. Это последнее дело несколько озадачило Мишу, но он вряд ли стал бы погружаться в выяснения, если бы Юрий, уловививший некую ошарашенность в Мишином взгляде, не пригласил его к себе.
Миша постучал в кабинет своего руководителя сразу после обеда, постучав — открыл, не дожидаясь ответа, и уже сделал шаг вперёд, но, увидев глубоко погружённого в свои мысли Юрия, приостановился и даже попятился, потихоньку прикрывая за собой дверь. Именно в этот момент и был он замечен очнувшимся наставником:
— Куда? Заходи-заходи!
— Извини, я не вовремя?
— Вовремя! В самое что ни на есть время! — он устало потёр лоб и затем все лицо рукой, — заходи, старик, есть разговор.
Миша, привыкший видеть Юрия вылетающим из одной двери отдела в сопровождении не успевающих за ним чертёжников или молодых специалистов, чтобы сразу скрыться в другой, увлекая кого-нибудь уже оттуда, почувствовал внутренне напряжение и драматизм в самой кабинетной статике. Между тем Юрий встал, отошёл к окну и стал раскачиваться взад-вперёд. Миша сел к столу. Рассматривал кабинет, задержался взглядом на распятом дивно-космического вида проекте. Усмехнулся: «Эк, занесло же кого-то в неуемной фантазии!» Но взгляда оторвать не мог: завораживал полет устремлённой вверх спирали, внезапный и какой-то трагический обрыв линий, была в этом настоящая, трогающая душу бетховенская патетика. Мише захотелось встать, подойти поближе, рассмотреть детали. Но в этот момент раздался глухой голос Юрия:
— Я в Киеве был… о Будиловском слышал? Хотел посмотреть у него кое-что, у нас ничего не нашёл — все изъяли. Поехал в Киев в архивах порыться. Так они, суки, со всех его проектов его имя убрали, вымарали, подчистили! Как и не было! «Ромашки» его на Оболони стоят, словно сами выросли! Была бы возможность и их бы бульдозером… У нас же «хрущёбизация» всей страны, уже неистового Микиты нет — а мы все хрущёбизируемся, «пследвательно и сиськимассиськи»! В мире новые стили, постмодерн, брутализм — но у нас же свой путь, нам любая ромашка поперёк горла! Что от 70-80-ых останется в нашей архитектуре? Улица Строителей?! Какой след мы оставим? Да и если оставим, не след даже — следочек, как Будиловский, и тот подотрут с лакейской торопливостью и приказывать не надо! Эбёнть! — затейливо выругался Юрий и швырнул в сторону карандаш, которым дирижировал во время проникновенного монолога.
Миша же, совершенно обалдевший, оттого что «кухонная», вполголоса, тема обрела столь мощное звучание, во время тирады уже смотрел не на проект, а опасливо косился на дверь, вспоминая, достаточно ли плотно он ее притворил. И только на последнем слове, на этом забавном ругательстве Миша рассмеялся.
Юрий развернулся наконец, отошёл от окна, устало опустился в кресло и, неверно определив направление Мишиного взгляда, произнёс:
— А! Это! Это ещё не закончено! Так, фантазии для себя, — подошёл к кульману, задернул шторку.
— Единственное место, где кипит мысль и что-то рождается у нас,- это «бумажная архитектура»… — помолчал, взглянул тепло на Мишу,- не увлекаешься?
Миша усмехнулся:
— Ну… не знаю, время Пиранези и Буле давно прошло… Да и какие-то уж слишком утопично-фантастические у них работы…
— А мне нравится, и сами ребята нравятся. Есть в них отвязность почти детская! И смелость, смелость мысли, смелость поступка тоже тренировать надо… и потом есть что-то в этом свободном полёте… такое чистое искусство без идеологии, без условностей. Обложили, да, конечно, но ведь есть разные способы… знаешь, не можешь перешагнуть, попробуй вознестись, взлететь всем назло. Да и работать надо, несмотря ни на что! Ибо, — тут Юрий шутливо поднял вверх указательный палец,- «в творчестве как в жизни: кто мало и лениво тараканит, у того рано развивается импотенция!»*. Кстати, тебе же пора категорию получать, а у тебя,кроме лекций и пары статей, нет ничего, так что я тебя в парочку проектов впрягу, чтобы было что предъявить, как ты?
— Да, спасибо! Конечно! — Миша обрадовался предстоящим хлопотам и работе. Да и категория тоже воодушевляла.
— А ты сам-то что молчал? — заражаясь Мишиной радостью спросил Юрий.
— Да нет, я собирался..,- зачем-то придумал Миша и озлился на себя за это.
Они уже прощались, Миша приоткрыл дверь, намереваясь выйти, когда Юрий задал ещё один вопрос:
— Миша, прости, а ты сам никогда не хотел… уехать? Прожить жизнь свою собственную, не навязанную обстоятельствами?
Миша аккуратно закрыл дверь, вернулся, подошёл к столу.
Юрий продолжал:
— У тебя язык, увлечённость, молодость, ни жены, ни детей…
В ответ Миша покачал головой:
— Разве здесь только желание надо? Или только язык?
— Да, прости, чувак, понимаю! У тебя родители, сестра. Ладно, беги! Старикам привет! Заболтал я тебя, да и мне работать надо, — и он невольно покосился в сторону завешанного кульмана.
Миша вышел, радуясь, что Юрий сам нашёл достойное объяснение. На самом деле, задаваясь этим вопросом, он, конечно, думал о стариках и о сестре, но пугало его другое — полное одиночество и отсутствие всякой поддержки там, страшила неуверенность в том, что он сам способен устроить свою жизнь. Здесь, плохо ли-хорошо ли, но все было ясно, он чувствовал даже некоторую исключительность свою, благодаря поездкам на конкурсы и конференции. Там же — сумрак неизвестности, нулевой цикл . Да и сколько может длиться этот чертов кризис! Будет, будет снова ездить, и восхищаться, и рассказывать страждущим о том, каких высот достигла архитектура где-то там… далеко…
Но слова «прожить собственную жизнь» осели неприятным осадком и время от времени ещё будут всплывать, тревожа мрачными раздумьями.
Пока же Миша увлёкся подготовкой к лекции, готовил слайды, диапозитвы, погружался в воспоминания, и душа его оживала.
По вечерам увлечённо переводил монографию «Пять архитекторов». Делился с отцом, обсуждал, спорил.
И картофельный нежданчик, и сама Люба окончательно замылились, растворились, словно и не было. Встречаясь с Любахен в отделе, он не смотрел сквозь неё, как на первых порах, а уже спокойно здоровался, как и прежде, не выделяя из числа иных копировщиц и чертёжниц отдела. Теперь она снова стала по-настоящему невидимой. Совершенно забылась и девушка-звезда. Лишь однажды, на лекции, где он увлечённо рассказывал о лондонском Барбикане и марсельских микрорайонах в духе социалистической утопии, показывал слайды, когда в воспоминаниях о волшебных командировках оживал душевный трепет, он, обратившись к аудитории, увидел те же лучистые глаза. Миша смутился, сбился, стал перебирать листы и слайды, и когда отважился снова посмотреть в многоглазое пространство зала, волшебства уже не было…
Совершенно иначе обстояли дела у Любы. В то время как Миша старательно присыпал неприятные воспоминания о ничего не значащем для него происшествии шелухой многочисленных дел, чтобы ни один росток не пробился, Люба мысли об этом событии тщательно оберегала, снова и снова извлекала из мусора суеты, сдувая пыль забвения. Вновь и вновь она проживала каждую деталь, каждый жест, каждое прикосновение, цеплялась за воспоминания, лелеяла и холила их, тряслась над ними, как скупой над укрытым от чужих глаз сокровищем. Пока не поняла, что не только она владеет произошедшим, но и оно владеет ею ещё в большей степени.
Поначалу Люба запаниковала. И неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы не здравомыслие ее тётки, у которой она жила в Калиновке, неподалёку от Видного.
— Ты чего ж надумала-то, дурында здоровая? — изрядно поудивлявшись самому факту Любиной беременности, уставилась она на племянницу с искренним недоумением. — Ты уж четвёртый десяток разменяла, дальше-то лучше не будет. Тебе Бог утешение на старость дал, а ты дитя своё извести хочешь?! Ополоумела нешто? Иль у нашего двора толпы сватов? А родишь — и будет с кем нянькаться, и заботится, и любить… Так что ты, девка, не дури!
Люба, ещё минуту назад исполненная готовности все перечеркнуть, сейчас уже сидела совершенно огорошенная мыслью, которой не допускала даже: она станет матерью, как миллионы женщин, у неё будет своя маленькая семья. Это было потрясение. Она уже почти физически ощущала тепло маленьких рук своего ребёнка, для которого она будет самой красивой и самой любимой на всю жизнь. И она, рыдая и смеясь, уткнулась в плечо тётки…
Однако было бы неправдой сказать, что Любу не пугали разговоры за спиной, усмешки вслед: общественное мнение к середине 80-ых ещё не утратило своего значения. Магический аргумент «а что люди скажут?!» работал не хуже библейских заповедей не только в деревнях или маленьких городках. Правда, с этим же непотопляемым аргументом совершались судьбоносные глупости: выходили замуж абы за кого в 25 (скоро 30! Что люди скажут!), обрекали себя на мучения в институтах, получая ненавистные профессии (какой поэт! Что люди скажут? Что у нас сын балбес? Не смог в институт поступить?!). Что уж говорить об одиноких матерях, матёрях-одноночках, как незлобивый наш народ окрестил их. Надо бы сказать и о том, что «контингент» одиночек был весьма и весьма неоднороден. Если не считать дам, в пьяном беспамятстве не осознававших не только факта зачатия, но порой и факта рождения своего несчастного дитяти, то в остальных случаях решения принимались ответственно, в здравом уме и твёрдой памяти. Но и среди таковых наблюдается немалое разнообразие. Наверное, в большинстве своём это все же юные дурочки, избранники которых, столь же юные оболтусы, не нашли в себе силы взять на себя ответственность и предоставили дурочкам выплывать самостоятельно, в то время как сами они на всех парусах мчались подальше от места крушения к новым манящим берегам.
Ещё один подвид являли собой возрастные дамы не слишком привлекательной наружности. Осознав где-то между 30 и 40, что надеяться в стране, где «на десять девчонок по статистике девять ребят», уже не на что, они обзаводились детьми, в которых вкладывали всю душу и силу нерастраченной любви. К ним относились с пониманием, а общественный приговор не был столь строгим.
Другое дело третий подвид. Эту группу составляли женщины привлекательные, сходившие замуж, а то и не раз, благодаря чему и пришедшие к мысли о несовершенстве института брака. В какой-то момент поняв, что Боливар не выдержит двоих , что легче тетешкаться с одним собственным ребёнком без положенного в нагрузку сына не слишком любимой свекрови, они оставляли ячейку общества и налегке вылетали на свободу. Вот их то и не любили больше всего. Но они были неуязвимы для общественного мнения, потому что никогда не интересовались тем, что скажут люди. Их не за что было пожалеть, а этого не прощают.
Но Люба ничего не знала о таких тонкостях и готовилась к насмешкам и унижениям.
У Миши жизнь бурлила. После лекций его попросили написать ещё одну статью, а в начале ноября он приступил к работе над большим проектом. Вот тогда-то Миша и встретил обладательницу сияющих глаз. Он бегом поднялся на верхний этаж, где в большой угловой комнате обитали архитекторы и техники. Все собрались за большим круглым столом, обсуждение уже шло. Миша встал рядом с Юрием. Разложил наброски местности, геодезические планы. Посмотрел эскиз, отметил некоторые неточности. Юрий покивал головой, но тут раздался низкий женский голос:
— Ну, это, мне кажется, не слишком большая проблема, если мы внесём небольшие измения вот сюда и сюда, вы позволите? — и узкая ладонь с длинными тонкими пальцами вспорхнула над эскизом.
Миша не выдержал и, подавшись вперёд, заглянул в лицо говорившей. В этот момент она оторвала взгляд от эскиза и прямо посмотрела на Мишу. И он сразу узнал эти глаза и эту улыбку. Обрадовался и смущенно улыбнулся в ответ.
— Вы не знакомы?- удивился Юрий.- Михаил — Лана.
И началась совершенно необыкновенная жизнь. Это был тот редкий случай, когда двое дополняли друг друга, составляя маленькую команду. Миша был не скор на идеи, вымучивал долго, а потом эксплуатировал найденное, слегка видоизменяя. Зато Лана идеями переполнялась, увлекаясь так, что забывала о требованиях заказчика, стандартах и прочих формальностях. А в этом как раз Миша играл первую скрипку: он всегда находил возможность поступиться минимальным в смелых решениях Ланы, чтобы максимально соответствовать выставленным требованиям. А потом смешил ее до слез рассказами о переговорах.
Хотя иногда Миша не выдерживал, мягко пенял ей:
— Ну, Ланочка, скажите, зачем вы это делаете? Зачем столько заведомо обреченных попыток? Ведь вы не наивны, все понимаете, знаете наперёд чем все кончится!
— Знаю, но так хочется увидеть какое-то живое чувство в этих надутых лицах: панику, страх, возмущение, — что угодно, только настоящее.
— Господи, ну что за ребячество! Неужели это стоит ваших усилий и вашего труда?! Да и может ли такое быть мотивацией?
Она как-то задумалась и ответила нерешительно:
— Не знаю, могу ли я вам сказать, не подумаете ли вы обо мне плохо?
Тут уж рассмеялся Миша:
— Плохо? О вас? — да кому же в голову взбредёт!
Она ещё раз внимательно и тепло взглянула на него:
— Знаете, я недавно книгу читала об ученом, которого все допытывались, зачем он занимается этим направлением, если результатов нет. Так вот он ответил: ну, наука как… секс, чаще всего ею занимаются не ради результата, а ради удовольствия. Простите… Но вот для меня это тоже удовольствие, — она смешно покраснела так, что на верхней губе выступили бисеринки пота.
Миша расхохотался искренне:
— Экие книжки вы читаете! Ай-я-яй! О чем это вы? Слово-то какое несоветское! — шутливо погрозил Миша пальцем, вызвав хохот Ланы.
Но ему почему-то польстила эта робость и неловкость ее.
Мише и молчалось с ней легко. Не возникало тягостного чувства, что говорить не о чем, когда надо было обязательно тарахтеть, чтобы заполнить паузу. И, пожалуй, она была единственной женщиной, кроме его матери, с которой Миша не заботился о своём образе, о впечатлении, какое он производит. И это было ново ему.
Очень скоро их общение вышло за пределы мастерской. Это был классический роман в полном согласии с законами жанра. Были свидания, театры, ужины, долгие прогулки по Царицину и Коломенскому, проводы до дома (Лана жила в старой части города, на Школьной), старомодные поцелуи у старомодной калитки, острое чувство тоски и одиночества, возникающее немедленно после расставания — словом, весь хрестоматийный набор.
«Высокие, высокие отношения»,- посмеивался над собой Миша. Но не было никакого желания форсировать и ускорять, напротив, с Ланой хотелось правильности, неторопливости. Как всегда, когда двое находят друг друга, принцип «всему своё время» самым естественным образом становится всеполагающим. Миша спокойно думал о том, как он будет делать предложение, придумывал подходящие для этого декорации (эх, хорошо бы на море, на закате, но где же взять в Видном море?!), присматривался к обручальным колечкам. В общем, дальнейшее развитие событий было ясно и неотвратимо, и неотвратимость эта принималась с радостью и была лучшим доказательством того, что все идёт как надо. И каждая новая удача и успех (защита проектов, получение категории ведущего архитектора) воспринимались как естественный и единственно возможный ход событий.
Вот в этом-то состоянии счастья и воодушевления, когда любишь весь мир и все человечество, Миша на лестнице столкнулся с Любой. Она, неловко согнувшись, пыталась поднять упавший альбом, придерживая остальные подбородком. Миша поторопился помочь, взял из рук Любы все альбомы и только тогда заметил торчащий Любин живот. Ни одно воспоминание не родилось в его душе, ни тени беспокойства не промелькнуло в глазах. Напротив, он, весело улыбнувшись, прямо и открыто взглянул Любе в лицо:
— О! Люба! Я вижу, вас можно поздравить! — воскликнул он совершенно искренне, поднимаясь по лестнице и направляясь к каморке копировщиц.
И Люба, совсем недавно убеждавшая себя, что этот ребёнок будет только ее, что Мише она никогда ничего не скажет и уж точно никогда не попросит его о помощи, не перенеся этой Мишиной безмятежности, счастья в глазах, а более всего этой искренней радости за неё, ножом полоснувшей ее сердце, не выдержала и произнесла тихо и отчётливо:
— Спасибо,- выждала и уже у двери в каморку добавила,- но вы не волнуйтесь, Миша. Это было мое решение, и вам это ничем не грозит.
— Мне?! — начисто забыв о своём падении, удивился Миша, — а я-то….
И только тогда Миша все понял. Но его ещё хватило на то, чтобы аккуратно опустить чертежи на стол и невозмутимо покинуть комнату.
Часть третья.
Самообладания хватило не надолго. На ватных ногах Миша вошёл в свой кабинет, тяжело опустился на стул. Машинально стал перебирать страницы с подготовленной лекцией об архитектуре мостов. Взгляд его остановился на «Галопирующей Герте», как прозвали мост Леонида Моисеева. Хотел рассказать в конце лекции, как обрушилось красивейшее творение опытного архитектора, знал, что публике нравится такое. А сейчас сам почувствовал себя на этом раскачивающемся на сильном ветру, разваливающемся мосту. Физически ощущал, как ходуном ходит под ним пол, как съезжает стол с разбросанными страницами, как в тартарары летит стул — он даже в сиденье руками вцепился — не свалиться бы.
«Опытный мастер не учёл ветровой нагрузки, — слышался Мише противный насмешливый блеющий голос, с издёвкой повторявший снова и снова, — не учёл … опытный, а не учёл…»
Наконец, галопирование унялось. Страх не исчез, но обрёл границы. Тяжело, со скрипом проворачиваясь, включилась мысль.
Ах, как была необходима ему сейчас лёгкая рука Ланы, как нуждался он в ее умении одним движением исправить роковые последствия, в ее взгляде, подмечающем все неточности, которые могут привести к катастрофе. Но Лана была последним человеком, которому он мог бы рассказать о том, что связало его так неотвратимо с Любой.
А рассказать было надо.
Сестра! Машка! Ну, конечно, же!
И он все ещё дрожащей после обрушения «Галопирующей Герты» рукой набрал межгород.
Сестра Михаила, Маша, была успешным врачом-эндокринологом, работала в клинике при Военно-Медицинской Академии в Ленинграде. Именно ее трезвое, ироничное, часто жесткое, но всегда вдумчивое отношение нужно было Мише. Маша была всегда в работе, в движении, застать ее было сложно, и Миша приготовился ждать, но ответила она. Он так обрадовался, что на секунду забыл, зачем звонил:
— Мааашка! -протянул он. — Как я соскучился!
— Миша! — удивлённо произнёс низкий голос.- Что случилось?!
— Машка, как ты мне нужна!
— Фуууу, -с облегчением проговорила трубка,- тебе! Значит, со стариками все в порядке. И фууууу, — голос зазвучал с насмешливой брезгливостью, — ты во что-то вляпался?
— Маш, а приехать не хочешь? — вкрадчиво спросил Миша, игнорируя вопрос.
Маша засмеялась:
— Братец, ты вороных-то не закладывай! Не гони! Успокойся, нещечко ты наше, и рассказывай, зачем я тебе понадобилась. У меня сорок минут. Буду кофе пить и слушать.
— Маш, не смейся, но это мистика какая-то,- предупредил в качестве предисловия Миша.
— То есть настолько все хреново?! Давай уже, хватит вступлений.
И Миша, отчасти, чтобы не упустить важного, отчасти, чтобы оправдаться тем, что «бес попутал», начал издалека: с манящих глаз напротив и так некстати подвернувшейся ноги. Маша время от времени беззвучно смеялась в трубку:
— Боже, как лирично! Ты уверен, что архитектура — это твоё?
Сбивчивое повествование Миши лишь изредка перебивалось ироничными комментариями, вроде «ммм, шёл в комнату — попал в другую», «ооо, какая борьба духа и плоти». Наконец, он прервал свой рассказ, воцарилась тишина. Миша собирался с духом, чтобы выложить главное.
Маша, устав ждать, нажала:
— Это, конечно, очень драматично и по-шекспировски увлекательно, но вряд ли ты стал бы мне звонить только для того, чтобы рассказать о давно минувшем. Подозреваю, что твоё падение, во всех смыслах, оказалось плодо-творным?
— Тебе можно ничего не рассказывать.
— Миша, я таких историй на дню раз десять выслушиваю. Пошлость, братец, однообразна и скучна. И твоя история мало чем здесь выделяется. Я отнюдь не морализирую. Что делать! Биологии в нас больше, законы природы никто не отменял. Но я врач, и для меня, все, что здорОво, то нравственно. Это тебя утешит, я полагаю… Но… Вляпался ты, Мишаня, как подросток, это стыдно. Хотя..,- в голосе послышалась грустная ирония,- посмотрим на это с другой стороны: если твоя Люба такова, какой ты ее описал, ты дал девушке шанс стать матерью. Это почти подвижничество,- Маша засмеялась. — Правда, себя поставил под удар, но когда подвижников это смущало?
— Она сказала, что мне беспокоиться не о чем.
— Ага! То-то ты и не беспокоишься! — снова рассмеялась Маша.
Миша сник.
— Могу тебя утешить, через пару месяцев уйдёт твоя Люба в декрет, а это срок долгий. Ну, а как известно, чего глаза не видят, о том душа не болит. Так что сможешь расслабиться… на какое-то время… С моральными аспектами уж как-нибудь сам разберись.
— Презираешь меня? — уныло спросил Миша.
Маша снова рассмеялась:
— Сочувствую так! Сказать по чести, не был бы ты влюблен, я бы настоятельно советовала тебе жениться на Любе: тестостерон, брат, — штука мудрая! Да и разочарований избежишь: здесь товар лицом, а то женишься на тоненькой и глазастенькой, а она — бац! — Любой станет!
— Ну, все, Маш, не терзай! Издевателей начальник!
— О! Терзания у тебя впереди. Привыкай! Не стоит верить всему, что обещают беременные женщины.
Стариков обнимай и целуй! Позвоню в выходные. Через месячишко буду посвободнее — приеду. Не горюй!
Миша положил трубку. Несмотря на Машин тон, он почувствовал себя лучше: мысль об исчезновении Любы в связи с долгим декретным отпуском его воодушевила. И, хоть занозой торчал ещё страх, он решил, что о проблеме можно забыть, а там, кто знает, может, само рассосётся. Он облегченно вздохнул, встал и стал аккуратно собирать страницы лекции. Задержал взгляд на картинке Такомского моста… Усмехнулся. Что ж, на это раз пронесло…
Люба, так неожиданно для самой себя выдавшая Мише тайну, предавалась переживаниям. «Зачем? Зачем? Зачем?» — пульсировал вопрос. Она знала, что этот порыв был продиктован Мишиным счастьем, его чувством покойной уверенности в себе, в своей жизни. Так захотелось увидеть смятение в его лучащихся радостью глазах. Триумф отмщения длился недолго. Она понимала, что винить Мишу глупо, что она усложнила жизнь не только ему, но и себе. И все же было большим утешением сознавать, что ей удалось нарушить безмятежное существование Миши.
* * *
В начале марта, сразу после длинных выходных по поводу 8 Марта, Юрий молодым весенним ветром ворвался в сумрачный офис. Взбегая по лестнице, стучал или сразу открывал двери:
— Все ко мне! Быстрее, быстрее!
Народ, томившийся в кабинетах, освещённых холодными люминесцентными лампами, изумлялся, оживал, все приходило в движение, гул голосов выплёскивался на лестничные пролеты. Сыпали вопросами, покачивали головами, пожимали плечами и перепрыгивая через ступеньки, устремлялись вверх. Сквозь грязноватые стекла едва пробились лучи выглянувшего вдруг солнца, усилив оживление и радостную приподнятость.
Юрий с торжественным видом стоял в центре кабинета, терпеливо ожидая, когда все войдут и затихнут.
— Дорогие коллеги! У меня сногсшибательная новость! Наши архитекторы, среди которых и ваш покорный слуга, оказались победителями сразу двух конкурсов, японского и английского, в Architectural Design. Конкурс прошёл осенью, но до нас это радостное известие дошло только сейчас. А поскольку весна — более символичное время для таких приятных «новостей», не будем омрачать себе этот праздник даже тенью недовольства. Мне сегодня и журнал торжественно вручили, поэтому не стесняйтесь, подходите, смотрите, восторгайтесь!
Кто-то распахнул окно. Потоки весеннего воздуха ворвались в комнату, вытеснив спертую духоту, запахло талым снегом, размокшей корой оживающих деревьев. Стало свежо, солнце заиграло на лицах, зажгло блеск в глазах. Посыпались поздравления, журнал переходил из рук в руки, поднялась весёлая суета.
— Вот это да! Ребята прорубили окно в Европу! А то там уж совсем о нас забыли!
Миша, возликовавший вместе со всеми поначалу, почувствовал вдруг, что он завидует и незнакомым ребятам, и Юрию. Кто бы мог подумать, что эти фантазии прорвутся на страницы солидных журналов! Особенно ревниво отнёсся он к тому, как Лана бросилась к Юрию, для неё он был Юрием Матвеевичем, порывисто обняла его:
— Ах, как здорово! Боже мой! Жить хочется как хорошо! Поздравляю вас, Юрий Матвеевич! Ой, да нет, всех нас поздравляю.
Юрий пожимал всем поздравляющим руки, сопровождая неизменным «Спасибо, старик!», растерялся от такого натиска, похлопал Лану по спине и на автомате произнёс «Спасибо, старик!», усилив всеобщее веселье.
Миша невольно улыбнулся и тоже подошёл к Юрию.
— Миша, останься, разговор есть,- негромко произнёс Юрий.
Миша кивнул, но никто не собирался расходиться. Стреляли пробки принесённого Юрием шампанского. Девушки резали вафельные тортики. Кипела веселая суета, какая бывает по большим праздникам. Никому не хотелось возвращаться в пыльные комнаты, к унылым проектам, когда настоящая жизнь какого-то неведомого огромного мира ворвалась к ним на крыльях весеннего ветра, и они неожиданно оказались причастны этому миру и этой жизни. Радовались и печалились одновременно, пили за то, «чтоб как у людей», и понятно было, у каких людей. Все были на подъеме, с хорошим чувством прорыва к тому самому светлому будущему, которое для кого-то было повседневностью.
Юрий отвёл Мишу к окну.
— Миха, — улыбаясь начал он, обняв Мишу за шею.- Михаааа! Даже не знаю, как сказать… не сглазить бы! Нас с Уткиным, вторым автором, приглашают поработать Лондон! В Лондон, Миха! Поэтому и шло сообщение о конкурсе так долго: наверху соображали, что с этим делать. Ты же знаешь, у нас сейчас владение иностранным языком — уже подмоченная репутация. Достали уже со своим бдением! Ну пока, вроде, в общих чертах согласие получено. Не знаю, какой там решальщик дальше будет, но будем надеяться и ждать.
— Юра, а ведь это, правда, прорыв! — искренне воодушевленно произнёс Миша.- Неужели разрешат?!
— Ну не будем бежать впереди паровоза. Я что хотел-то… Миша, здесь конкурсы архитектурные готовятся. Тебе, старик, хорошо бы поучаствовать. В любом случае, а уж если я уеду, тем более. Подумай над этим.
Юрий рассеянно взглянул на остановившуюся в дверях Лану, он хотел было продолжить, но что-то заставило его снова обернуться к девушке. Она стояла прикрыв рот рукой, немного опустив голову. Взгляд как у нашкодившей девчонки.
— Что случилось, Лана? Разбила что-нибудь? — спросил обернувшийся Миша. — Эскиз залила?
Лана отрицательно помотала головой:
— Там радио у нас..,- начала она с усилием сдерживая смех.
— Да фиг с ним, с радио,- отмахнулся Юрий.- Мы и так знаем об успехах советского народа и дальнейших руководящих достижениях нашей Партии.
Воцарилась тишина. Теперь все уже с интересом смотрели на Лану.
— Вот что касается партии.., — девушка снова сделала паузу, пытаясь придать своему лицу подобающее выражение,- то … мы снова понесли невосполнимую утрату…
— Черненко дуба дал?
— Никогда такого не было, и вот опять!
— Лафетные гонки продолжаются!
С разными интонациями, но без скорби, раздалось в комнате.
Юрий подошёл к Лане, обнял, словно утешая, погладил по голове:
— Ну-ну, Ланочка. Не стоит так убиваться. Наша партия как Змей-Горыныч: одна голова отвалилась — три вырастут.
— Ну что ж! Надо помянуть, товарищи коммунисты и беспартийные, делать нечего, наливай!
В этот момент с оглушительным ударом от сквозняка захлопнулась дверь в кабинет. Многие вздрогнули, вскрикнули субтильные барышни, и, наконец, рассмеялись и вздохнули с облегчением, снова забурлил разговор о надеждах, мечтах и будущем.
После работы Миша зашёл за Ланой.
— Провожу тебя, не возражаешь?
Лана легко и весело подхватила его под руку, и так прижалась к нему на улице, что он локтем прочувствовал рёбра сквозь тонкое пальтецо.
Солнце скрылось за тучами над горизонтом; похолодало; лужи прихватило ледком, но снег под ногами раскис, чавкал и уже через 15 минут даже хорошие башмаки напитывались холодной влагой. Грязные сугробы снега, с боем оттиснутые с проезжей части, заваливали тротуар серой кашей.
Тоскливо серели промокшие пятиэтажки, с завистью смотрящие на крепенькие невысокие красного кирпича здания с нездешними арочными окнами. В приземистом, без полёта, строении райкома партии мертвенным холодным светом сочились окна.
Сосульки толпились на краешке крыш, время от времени то одна, то другая с решимостью самоубийц отчаянно бросались вниз.
Но Лана и Миша, тесно прижавшиеся друг к другу, не замечали ни промозглости вечера, ни засасывающей слякоти под ногами, ни нищеты захламлённых балконов хрущоб, ни, тем более, суицидального настроения сосулек.
Прошли Площадь с изображением скрюченного радикулитом Ильича, так и не сумевшего распрямиться и встать в полный рост, после того как слегка оторвался от стула. Миновали ладное, строгое здание школы. У калитки Миша остановился. Но Лана потянула его за руку:
— Пойдём, просохнешь немного и кофе выпьешь.
Сердце у Миши екнуло: он хоть и присматривался к колечкам, но все же думал о неизбежных переменах как о неопределенно- отдаленном будущем:
— Нет-нет, Ланочка, у тебя родители, а я выгляжу как ошурок, да ещё и ботинки расползаются. Ни цветочков, ни конфет,- затараторил он.
Лана прильнула к нему, приблизила лицо к его лицу и прошептала почти по слогам:
— Ни-ко-го нет! Мои уехали!
Страхи отступили, и Миша перешагнул порог маленького «финского» домика, стоявшего в глубине небольшого сада.
Квартира Ланы, где она жила с родителями, поражала не размерами, но необычностью: потолки выше привычного, кухня, где было место для круглого, крытого скатертью стола, на стенах много эстампов, рисунков самой Ланы, газовая колонка в ванной, куда Миша зашёл вымыть руки. Пахло чистотой, кофе, какими-то приправами, уютом.
Пока Лана варила свежесмолотый кофе, Миша с любопытством рассматривал фотографии, их было много, и черно-белых и цветных. Почти на всех — Лана с родителями, маленькая, с косками, корзиночкой уложенными на затылке, побольше, длинноногий коротко стриженный подросток, недавние. Но несмотря на возрастные метаморфозы, семья на всех фото оставалась семьей. Отец Ланы со всех фотографий хоть и улыбался Мише, но взгляд был строгий и проницательный. В Мишиной семье такой взгляд был у матери, у отца же -близорукий и очень мягкий. На последней фотографии отец Ланы был один, с каким-то дипломом в руках, и смотрел на Мишу так требовательно, что тому стало на минуту неловко в этом уютном, славном домишке.
Лана позвала его, и он вошёл в кухню.
На столе дымились чашки, стояла вазочка с печеньем «юбилейное» и конфетами, керамическая бутылка Рижского бальзама и какого-то ликера.
— Устроим праздник! — весело провозгласила Лана.
И снова какое-то безотчетное чувство тревоги и неловкости возникло в Мишиной душе, когда он сидел за семейным столом. Словно он был самозванцем, не тем, за кого себя выдавал.
— Ну вот, опять у тебя это странное выражение лица, словно зуб болит. Что с тобой?
«Не рассказать ли прямо сейчас и все решить, и завтра уже все останется позади»,- мелькнула мысль, но тут же снова противный блеющий голос возразил: «да, да, расскажи и все, именно все, останется позади, все… все…»
И Миша успокоил себя тем, что давно не видел Любы, что, возможно, она уже в декрете, а раз так, то зачем ворошить …
И он уже спокойнее и увереннее посмотрел на Лану и взял ее за руку…
Позже, склонившись над Ланой, проводя пальцем по выступающим косточкам грудины, умиляясь ямочке под выпирающей ключицей, пытаясь вобрать в себя весь свет обращённых к нему доверчивых глаз, он вдруг вспомнил слова сестры «а она -бац!-и Любой станет!», ему даже на секунду почудилось, что это не хрупкая Лана закинула ему тонкую руку на шею, а Люба во всей своей весомой убедительности бесстыдно раскинулась перед ним. Он вздрогнул, зябко передернул плечами, отогнал видение. Но чувство, что он украл в доме, где ему доверяют, застряло и не отпускало уже. Было и ещё одно, в чем Миша не хотел себе признаться: то ли ревность, то ли даже осуждение за то, как легко Лана совершила «грехопадение» (именно это слово и пришло ему на ум, царапнув своей старомодностью и лицемерием). Ему была неприятна мысль о том, что у Ланы, оказывается, было прошлое.
* * *
Возможно, отношения молодых людей развивались бы более стремительно, но жизнь вносила свои поправки: не хотелось «ускоряться» вместе с партией. Провозглашаемые грядущие перемены вызывали подозрительность и недоверие, хотелось отступить и повнимательней присмотреться к тому, что пряталось за трескучими словами «ускорение», а потом «перестройка». И Миша с Ланой не торопились, но использовали каждую возможность укрыться друг в друге и в собственных чувствах от чего-то, казалось бы, и долгожданного, но пока ещё пугающего своим чрезмерным грохотом и скрежетом.
В июне им выдалась командировка в Ленинград, и Миша познакомил Лану с сестрой. Маша, чьи муж и сын отбыли на дачу, уговорила их ночевать у себя, чтобы пополуночничать с братом. Долго сидели за чаем, женщины как-то сразу нашли общий язык, шутили, смеялись. Миша несколько отстранённо наблюдал за ними, тихо радуясь тому, как хорошо вписалась Лана в их семью. Когда Лана деликатно пораньше отправилась спать, на какое-то время воцарилась тишина. Миша окончательно разнежился, ожидая от сестры похвал для себя и восторгов для Ланы, но разговор принял неожиданно неприятное для него направление: сестра сначала задала очень неудобный вопрос о Любе и ребёнке, и снова растревожила Мишины страхи:
— Мишаня, да ты дурень! Ты же до сих пор ей ничего не рассказааал! — протянула она. — Дурень и подлец.- И она пребольно ткнула его в лоб костяшками пальцев.
Пока Миша потирал ушибленное место, удивляясь в которой раз женской проницательности и пытаясь придумать оправдание, Маша встала, подошла к окну небольшой кухни, стояла, отвернувшись от брата, всей спиной выражая протест.
— Эта девочка никогда не простит лжи, — не оборачиваясь, глухо произнесла она.
— Ой, Машка, не изображай из себя Сивиллу! Мне из-за одной глупейшей ошибки всю жизнь каяться? -отмахнулся Миша, но сердце его сжалось в недобром предчувствии так, что он даже оправдываться не стал, признавая правоту сестры.
— От ошибок никто не застрахован, это доброкачественное образование, это курабельно, но в твоём случае это переродилось в злокачественную опухоль, в подлость, Миша, в подлость. Удивительно, что ты с твоей претензией на исключительность так легко скатываешься к вульгарной пошлости.
После этого тяжелого разговора, боясь потерять Лану, Миша решил при первой же возможности сделать предложение. И вот, когда уже через длинную цепочку «связных» и «нужников» было приобретено наконец колечко, когда выбрано и выбито через другую не менее длинную цепочку место в Золотом зале ресторана «Седьмое небо» на август, — в этот самый момент замаячило перед Мишей непривлекательное прошлое в образе марширующей вдоль подъездов Любы, толкающей перед собой коляску не опавшим ещё животом. Миша запаниковал.
Смятение сына было замечено Этелью Моисеевной, но причины его долго могли бы оставаться тайными, если бы не очередной досадный случай: Этель Моисеевна оказалась свидетельницей трусливого бегства Михаила, явно стремившегося избежать встречи со странной женщиной-гренадёром, с неумолимостью судьбы приближавшейся к нему.
— Что это за странная женщина здесь с ребёнком гуляет.., — словно про себя обронила она за ужином, как бы невзначай посмотрев в окно.
Сын напрягся, окаменел лицом, но сделал вид, что поглощён едой и своими мыслями.
Мать почувствовала неладное.
Вопросов, однако, задавать не стала, не желая ранить сына родившимся подозрением, но подходить к окну, прячась за шторкой, стала чаще. Тогда-то и заметила она настойчивые взгляды на их окна, особенно откровенные, даже, пожалуй, призывные, когда она выходила на балкон. Чудная мамаша иногда, с вызовом глядя на Этель Моисеевну, выразительно переводила взгляд на коляску. Так, без слов, стала открываться ей тайна сына.
В семье Лемешевых лишних вопросов не задавали, о том, что нужно, было принято все рассказывать самим в своё время. Но в доме имя Ланы уже звучало с интонациями, при которых старики многозначительно переглядывались, — сложить два и два труда не представляло… Вероятно, произведя это несложное математическое действие, Этель Моисеевна перешла бы к маневрам более решительным, как тут Люба пропала…
Часть четвертая.
Исчезновение Любы не оборвало размышлений Этели Моисеевны. А поразмышлять ей было о чем… И пугающие вопросы уже жгли ей душу, уже мучила ее жажда правды и ясности, уже труднее было удержать себя от вопрошающих взглядов, устремлённых на сына… Но тяжелые раздумья были пока ещё хаотичны, и она ждала, пока они обретут стройность, которая помогла бы ей достичь внутреннего равновесия и уверенности.
Этель Моисеевна выросла в приемной семье в белорусской деревне Поречье. Первые детские воспоминания до сих пор мучили ее кошмарами: она была одной из горстки спасённых из Минского гетто незадолго до последнего погрома в октябре 43-его. Ее, невесомую в свои шесть лет, вынесли на руках такие же обессилевшие от голода, холода и постоянного животного страха чуть более старшие дети.
Этель Моисеевна не позволяла себе погружаться в воспоминания, но в снах она была не властна. Чаще всего ей снились детские душегубки, появлявшиеся на улицах гетто сразу, как отправляли на работы взрослых и подростков, и предоставленные себе малыши голодными мышками шмыгали по улицам. Сон был всегда одним и тем же: она в развевающихся лохмотьях бежит по замёрзшей скользкой дороге, бежит сначала с другими детьми: она видит рядом свою подружку, знакомых мальчишек,- всех их настигает что-то такое жуткое, что она боится даже обернуться, чтобы страх не парализовал ее. Дети рядом скользят, падают и исчезают, и вот она уже бежит одна, шепча самой себе словно заклинание: «Только не упади, Этичка, только не упади!». Ей никогда не удавалось досмотреть сон до конца, она не знала, удалось ли ей укрыться или нет, собственный голос будил ее, когда она шелестела пересохшими губами: «Только не упади, Этичка, только не упади!». И даже проснувшись, она долго ещё не могла понять спасена она или нет.
Потеряв всех, Этель сохранила имя, жизнь и память. Имя и дата рождения были написаны на бумажке, пришитой к лохмотьям. Ей повезло, она обрела семью и была окружена любовью. Но образ матери и старшего брата, уведённых в никуда незадолго до ее спасения, и до сих пор был отчётливым, ничуть не замутненным временем. Возможно, благодаря всему этому Этичка не чувствовала себя обделённой судьбой, а тем более жертвой.
— Ну почему ты эту Тельку противную все время защищаешь?! — сердился на первых порах новый брат Этель после очередной их ссоры.
— А потому, что придут ее мамка с папкой и спросят: а как вы о нашей дачушке клапатились, а как вы нашу дачушку кахали? — отвечала мать, объятиями заслоняя Этичку от обидчика.
Так и росла девочка за двойным кольцом любви и заботы. Жизнь, видимо, решила, что на ее долю страданий уже выпало достаточно, и всячески оберегала ее.
Много позже узнает она, что для таких людей, какими были ее приемные родители, есть даже титул — Праведники мира; да, именно праведниками они для неё и были. Воспоминания о них всегда давали ей силу, наполняли сердце любовью, укрепляли душу.
Вот и сейчас, благодаря им, она нашла, наконец, недостающий кусочек мозаики, и все ее думы вдруг обрели стержень: если у неё внук, она, выращенная в любви в приемной семье, никогда не отступится от него, не лишит родного человека своей любви, поддержки и заботы; она не предаст своих Праведников. Теперь она чувствовала, что готова к разговору с этой странной незнакомой женщиной и с сыном. И уже каждый день она выходила на балкон, высматривая, не появилась ли Люба с младенцем. Так, зерно любви, едва зародившись, стало прорастать заботой и беспокойством.
* * *
Миша же, не увидев Любы в первый день, возблагодарил богов за передышку, а затем, как водится, и вовсе убедил себя в ее окончательном исчезновении. Он гнал прочь мысли о ребёнке, о возможных последствиях. Важно, что сейчас все складывалось так, как он спланировал. А все остальное — потом, потом… До задуманного события в Золотом зале «Седьмого неба» оставалось около двух недель; Миша выжидал. Всякий раз, с замиранием сердца подъезжая к дому, осторожно осматривал все вокруг — Любы не было — расслабленно переводил дыхание и, погружаясь в глубины самообмана, все смелее верил, что Люба капитулировала, сдалась, и проблема рассосалась. Тогда-то Миша и решил, что время пришло. Однако чтобы обеспечить себе возможность манёвра, он не стал предупреждать ни Лану, ни стариков о предстоящем знакомстве: совсем оправиться от страха ему так и не удалось.
* * *
В тот день, выйдя на балкон, Этель Моисеевна снова увидела Любу. Торопиться она не стала, села на диван в гостиной, стараясь унять сердцебиение. Прибралась на кухне, время от времени поглядывая в окно на Любу, исступленно наматывающую километры. Прибираясь, Этель Моисеевна продумывала, с чего и как начать разговор. В пятый раз протирала стол, кипятила чайник. Наконец, увидев, что Люба присела и стала кормить ребёнка, Этель Моисеевна вышла из подъезда и направилась к Любиной скамейке. Зрители замерли в онемении, ожидая развития событий. Этель Моисеевна сидела рядом с Любой, не отрывая взгляда от ребёнка. Все заготовленные для разведки боем фразы и вопросы были забыты:
— Давайте, милая, поднимемся ко мне.
Этель Моисеевна встала и взялась за ручку коляски. Люба последовала за ней, держа одной рукой ребёнка, а второй непослушными дрожащими пальцами застегивая пуговицы на кофточке.
-Как вас зовут? — спросила Этель Моисеевна, закатывая коляску под лестницу.
— Люба,- проговорила пересохшими губами женщина, ещё не совсем понимая как себя вести.
Люба была ошеломлена сошествием матери Михаила. Она хоть и смотрела призывно на окна квартиры Лемешевых, но в этом было больше бравады и желания вызвать чувство вины. Она решилась на осаду только для того, чтобы заставить Мишу устыдиться и все же поговорить с ней. Да и эта мысль возникла у них, только когда тетка тяжело заболела и попала в больницу. Болезнь напугала их обеих, захотелось поддержки. А ещё Любе, как и всякой матери, казалось, что, взглянув на ребёнка, отец обязательно, непременно проникнется чувством любви. Конечно, потаённо билось желание вразумить Мишу с помощью семьи, и уже давным — давно было похоронено и забыто обещание «ничем не обеспокоить» — чего не скажешь сгоряча, когда бушуют гормоны.
Люба вошла в квартиру. Положила заснувшего сына на диван в гостиной. Женщины немного постояли вместе, молча глядя на спящего мальчика,- молодая проверяла, удобно ли малышу, а пожилая на несколько секунд перенеслась в далекое прошлое, когда она точно так же положила на тот же диван своего новорожденного сына, так они были похожи,- и прошли на кухню.
Этель Моисеевна накрывала на стол, ставила чашки, вазочку с печеньем, взглянула на Любу — и стала делать бутерброды, разливала чай. В гнетущем молчании звяканье, звон и стук раздавались болезненно отчетливо.
Наконец она села, посмотрела с улыбкой на гостью:
-Кушайте, Люба, кушайте, — нарушила она молчание.
Этель Моисеевна отметила про себя настороженный взгляд и и обиженно поджатые скорбные губы гостьи, ее манеру пододвигать к себе тарелки и наваливаться на стол, нависая над ними. Обида и страх быть обиженной, обделённой ещё более, сквозили в каждом движении Любы.
«Жертва…», — обреченно подумала Этель Моисеевна.
В ее классификации строго разделялись люди, попавшие в жернова обстоятельств, и жертвы по призванию. В первой группе мог оказаться любой человек. Обстоятельствам можно противостоять, бороться с ними, их можно перетерпеть, приспособиться к ним, из них можно найти выход, быть сильнее их и даже использовать, не ставя себе в заслугу страдания, ими причинённые, не выставляя счёт миру.
Иное дело жертвы по призванию… Они готовы безропотно поступаться своими привычками, образом жизни, вкусами, готовы терпеть унижения без возражений и споров: бессловесная жертвенность для них — вид индульгенции, дающей им право вызывать жалость, сострадание и даже чувство вины у окружающих. Свои нравственные, а часто и физические муки они оправдывают большой любовью, чувством долга. Но не любовь движет ими: жертва во имя любви молчалива и необременительна, приносится с радостью и не требует платы.
Страдальцам же только плата и важна, поэтому они обязательно будут рассказывать о переживаемых из высоких соображений голгофах, бесстыдно обнажая душевные и телесные ссадины и синяки, переживая вместе со слушателем сладостную жалость к себе самим, ловя в его удивлении оправдание своему мученичеству. Не дай вам бог выразить возмущение или хотя бы недоумение во время стенаний и жалоб — вы вызовете гнев не только самой жертвы, но, пожалуй, и некой части общества, в сознании которой жертвенность была чуть ли основной линией партии, иначе почему ее возводили на пьедестал?
Так что поскреби немного мученика и непременно найдёшь мучителя: терзают чувством вины, необходимостью сострадания да мало ли ещё чем… Чужая обида всегда висит камнем на шее.
— Вот о чем, Люба, я хотела вас спросить… Миша знал о вашей беременности, вы с ним обсуждали это? — прервала свои невеселые размышления Этель Моисеевна.
— Да, конечно, я ему сказала, — смиренно ответила Люба, радуясь теперь в душе той встрече на лестнице и своим мстительным словам.
— Простите мне мою прямоту, но ваше имя никогда не звучало в нашем доме. Ни в каком контексте. Потому предположу некоторую случайность … рождения ребёнка, я права?
Люба потупилась, пожала плечом, виновато кивнула.
— Но раз Михаил знал о вашем решении, он предложил вам какую-то поддержку?
— Нет, — уже уверенно и с сознанием превосходства ответила Люба и повторила,- нет, Миша ничего не предлагал.
Люба не солгала, но и правды не сказала, и будто бы и не изменила истине, лишь видоизменила ее саму, утаив некоторые детали, и сразу почувствовала себя на коне в этой новой уже и более удобной для неё реальности, роли наконец распределились, пьеса обрела знакомые сюжетные линии: она -пострадавшая, Миша — беспечный лиходей-искуситель, ну а Этель Моисеевна его таким воспитала, значит, и она виновата в ее, Любиных, мытарствах. Люба распрямила спину, скорбно опустила глаза, ещё больше поджала губы, всем своим видом говоря «вот вы что со мной сделали».
Этели Моисеевне по-женски жаль было нелепую Любу, ещё больше, по-матерински, было жаль Мишу, и по-еврейски, какой-то вселенской, всеобъемлющей жалью жалела она этого малыша, который может вырасти без отца и без бабушки с дедом. И она решила, что надо устроить все по-человечески, дождавшись мужа и сына, на семейном совете. Она не любила тайн и секретов.
— Как вы назвали сына, Любочка? — спросила Этель Моисеевна, услышав кряхтенье ребёнка: слух у неё был музыкальный.
— Алёшей, — ответствовала молодая мать и снова взгляд «на нос, в угол, на предмет».
Алексеем звали Мишиного отца, мужа Этели Моисеевны. Женщина усмехнулась: ммм, нельзя, чтобы случайно,- грибоедовской цитатой подумалось ей.
* * *
День у Миши с утра не задался: Юрий сообщил, что его поездка в Великобританию на вручение премии утверждена.
— Ты не представляешь, через какие тернии я прорвался, — со смехом рассказывал Юрий. — Лекции читали, допрос с пристрастием учинили! Всё допытывались, кто там в Болгарии Председатель. Ну при чем тут Болгария?! Я мямлю что-то, пытаюсь отшутиться, мол, я про Тюдоров учил. А там три старпёра сидят — на двух толстых рожах тотчас неодобрямс, а третий, главный, совсем глухой, наверное, обрадовался, головой закивал и кричит: «Да-да, именно, Тодоров!». Так и проскочил.
И Юра зашёлся в беззаботном смехе.
Посмеялся и Миша. Но в душе возникло странное чувство. Нет, даже не зависть, а запоздалое сожаление и неизбывная досада на себя. Так бывает, когда осознаёшь, что путь, отвергнутый тобой, другого привёл к успеху; так бывает, когда оплакиваешь мечту, которой ты не позволил даже родиться.
— Там же, представляешь, помимо премии, месяц на семинарах в Лондонском университета Гилдхолл! Поверить не могу! — добавил Юрий с восторженным изумлением, словно намеренно подбрасывая дровишек в Мишин погребальный костёр.
И окончательно приуныл Михаил, когда стали разбирать эскиз заказанного кинотеатра. Мишино участие работе свелось к тому, чтобы пригасить неуемные фантазии молодых архитекторов: он старательно выпрямлял затейливые изгибы, обрубал рвущиеся ввысь линии, и вот теперь именно на это и обрушился Юрий:
— Ребята, ну что это?! При нашей массовой серой застройке хотя бы такие объекты должны глаз радовать! Почему, что бы мы ни делали, у нас райком партии выходит?! Должен же быть хоть какой-то, пусть незэээнький, но полет!
— Да какой полет?! Куда лететь-то? В бездну? Все же зарубят к хренам! — пытался отбиться Миша.
— Ну не драматизируй, Миха! Не зарубили же яхтклуб Маслову в Ленинграде, не зарубили ресторан в Паланге Эйгирдасу, даже цветочный павильон Вакуленко не зарубили в Сочи! А нам все зарубят на корню ещё до того, как вырастет? Поэтому мы даже не сажаем?!
Но заметив Мишину подавленность, Юрий утих, смягчился, похлопал Мишу по спине:
— Пофантазируй, старик, ты же можешь! — закрыл тему Юрий, возвращая Мише эскизы.
И лишь когда Миша прикрепил к кульману свой проект, предназначенный для выставки, Юрий воодушевился до экстаза, нервно заходил по комнате, отходил от кульмана и снова приближался, щурил словно от яркого света глаза и наконец завопил с восторгом:
— Старик, это гениально!
Работа действительно производила впечатление: среди гор парили в воздухе НЛО — диски — этажи зданий с окнами-иллюминаторами зависли парами или один над другим. Основное здание, к которому они крепились было отделано металлическими фасадными панелями, отражавшими снежные вершины и сосны, что делало их невидимыми и усиливало иллюзию левитации зданий.
Это был проект горного курорта.
Собственно говоря, идея принадлежала не Мише, он высмотрел ее несколько лет тому назад в каком-то не слишком солидном архитектурном журнале, запомнив, что проект не был осуществлён где-то в Азии по причине отсутствия денег. Но для себя это заимствование Миша определил как «цитирование» или «работа с материалом», кое-что слегка изменил, придумал облицовку — и окончательно почувствовал себя автором.
Впечатлившись этой работой, Юрий заговорил о предстоящем конкурсе, оптимистично оценил шансы Михаила, с прозорливостью счастливого человека угадав, в чем больше всего тот сейчас нуждался.
И, действительно, на душе у Миши посветлело, мало-помалу возвращалась уверенность в себе, и вот уже он почувствовал свежее волнение жизни, ветер в лицо, захотелось поднять паруса и ринуться навстречу ветру и пенистым волнам.
Так, напевая «Бригантину“, и работал Миша до обеда, прорываясь сквозь волны к земле обетованной. И казалось ему, вот-вот и достигнет желанных берегов. Он и обед бы, верно, пропустил, да веселый топот и гомон за дверью вернул его из мечты в реальность.
Во время обеда Михаил съездил на разведку к дому, медленно проехал вдоль подъездов, и, не обнаружив Любы, с облегчением вернулся в контору, купив по дороге цветы, радуясь, что все так удивительно удачно складывается.
Вечером зашёл за Ланой.
— Не занята?
— Все закончила уже и свободна, как ветер! — радостно ответила девушка, стягивая с себя белый халат.
— Составишь мне компанию?
— Конечно! Куда мы направляемся?
— Увидишь! — увильнул Миша.
И только возле дома, снова убедившись, что Люба не появилась, Михаил объявил:
— Пора знакомиться с моими стариками!
Лана смешно вытаращила глаза:
— Миша, ну как ты мог, вот так с места в карьер без предупреждения?! Я не одета, без цветов…
— Ччч! Не волнуйся, цветы есть, тортик куплен! Все в порядке. Идём-идём-идём!
— Ой, ну все равно, страшно немного. Сказал бы заранее, я бы подготовилась внутренне,- уже в подъезде причитала Лана, легко стуча каблучками по ступеньками.
Миша одной рукой нажал кнопку звонка, держа другой Лану за руку, Лана высвободила руку и спряталась за Мишину спину.
Дверь открыла Этель Моисеевна с младенцем на руках.
На секунду Миша опешил, подосадовав, что сцена не удалась. Но он почувствовал, как Лана от неловкости и страха прижалась к нему, быстро собрался и, нащупав ладонь девушки, бодро произнёс:
— Здравствуйте! Это кто же у нас в гостях?
— Твой сын, — буднично ответила Этель Моисеевна, не заметив прятавшейся за Мишиной спиной Ланы. Она сделала шаг назад, пропуская Мишу, и в этот момент дверной проем, ведущий в кухню, загромоздила собой Люба.
Вот тогда-то Лана и выглянула из-за Миши, пытаясь осознать происходящее. И только тогда была замечена Этелью Моисеевной. Женщины смотрели друг на друга одинаково ошеломлённо, постепенно осознавая катастрофичность момента.
Миша остолбенел, его сознание с трудом продиралось сквозь происходящее, не постигая смысла. Он не почувствовал, как выскользнула из его взмокшей ладони рука Ланы, не услышал, как автоматной очередью простучали ее каблучки и только выстрел захлопнувшейся двери подъезда заставил его выйти из оцепенения.
Но он не ринулся за Ланой, не нагнал ее: Такомский мост вновь закачался под ним, задрожал и стал разваливаться прямо у него под ногами. Приняв неизбежность падения, он обмяк, обреченно сделал несколько неверных шагов и безвольно опустился на тумбу в прихожей, но мост все раскачивался и рушился у него под ногами, и все звучал и звучал отвратительный блеющий голос: «Опытный мастер не учёл силы ветра…. опытный, а не учёл»… Вот тогда-то и захлопнулись ставенки-створки вмиг опустевшей Мишиной души…
(продолжение следует)
Часть пятая.
Он безучастно присутствовал на семейном совете, не видел грустного, сочувствующего взгляда отца, не слышал металла в голосе матери, не оправдывался, не возразил Любе, с осторожностью повторившей в его присутствии свою версию правды. Отворотясь ото всех, Миша с пустым любопытством смотрел на кряхтевшего в диванных подушках ребёнка, бессмысленно обводящего вытаращенными глазёнками все, до чего мог дотянуться взгляд. Это скользящее ощупывание действительности очень совпадало с Мишиным восприятием происходящего: без фиксации, без анализа, без оценок, словно чётки перебирал.
Он проскользил слухом решение привозить маленького Алешу к Лемешевым . Встал из-за стола, потому что все встали, но не вышел со всеми в тесную прихожую, а опустился безвольно на диван, с которого забрали ребёнка, откинулся тяжело на спинку, и, закинув голову, так же бессмысленно, как только что лежавший здесь младенец, обводил глазами ставшую вдруг чужой и незнакомой комнату. Такими же чужими и незнакомыми стали для него и мир за окном, и люди, и вся его жизнь.
А жизнь его свелась вдруг к физическому существованию. Он чувствовал себя брошенным домом с заколоченными окнами. Редкий луч света пробивался извне сквозь зияние щелей; внутри сумерки, заплесневелый дух, мышиная возня инстинктов.
В начале сентября провожали Юрия, на работе устроили отвальную, чего-то желали, к чему-то призывали, что-то обещали, о чем-то просили. Миша с отстранённым удивлением различал и свой пустой голос в гуле чужих голосов. Но и реплики, и поступки, да и вся жизнь его были словно на холостых оборотах.
Вечером того же дня Юрий заехал к Лемешевым с коробками, тубусами, папками. Попросил «приютить» свои работы. Сидел за чаем с какой-то особенной грустью, прощался особенно проникновенно, но все это скользило мимо оглохшей и ослепшей Мишиной души. И только на пороге, когда Юрий не только крепко пожал Мише руку, но и заключил его в неожиданные объятья, Михаил очнулся:
— Слууушай! — протянул он, поражённый внезапной догадкой. — Да ты валить собрался?! С концами?!
— Не знаю ещё ничего, Миха… Но.. если получится…
— Думаешь, не наладится у нас ничего? Вроде обещают перемены… может, рухнет все это к чертям…
— Не слишком я в это верю, Миша, а если рухнет — ещё страшнее: десятилетия пройдут, пока мы из-под обломков выберемся, а у меня одна жизнь. Удачи! Давай!
Они ещё раз обнялись, совсем как друзья или близкие родственники.
Юрий шагнул в темноту подъезда. И пушечный выстрел захлопнувшейся двери многократным эхом отозвался в ледяном безмолвии Мишиного сердца.
* * *
К жизни Миша возвращался трудно, ничто не задерживалось в сквозной пустоте его сердца. Он научился сохранять дистанцию в общении с Ланой, выдерживать холодное равнодушие ее взгляда, смиряться с уравнительной вежливостью улыбки.
Миша охотно погружался в дела, брался за все, что занимало голову и не позволяло мыслям кружить вокруг непоправимого. И конкурс, участие в котором было заявлено ещё при Юрии, был как нельзя кстати.
Миша увлёкся поиском идеи для подмосковного дома отдыха, делал наброски, но так и не мог нащупать чего-нибудь стоящего. Как ни менял он эскиз, как ни пытался найти новый подход, получалось нечто пафосное и при этом унылое до зевоты и банальное до оскомины.
Как-то вечером, когда Миша, сделав очередной набросок, снова отшвырнул от себя карандаш и принялся в бесплодном раздражении ходить из угла в угол, в комнату вошёл отец.
— Ты позволишь? — спросил он, показывая глазами на эскиз.
Миша махнул рукой. Отец пододвинул к себе эскиз, долго изучал, мягко улыбнулся:
— На разведшколу в лесу похоже… Райкомов -то сейчас не проектируют,- сам того не подозревая процитировал он Юрия.
Миша шутить был не расположен:
— Ну, спасибо, папа!
Отец пододвинул стул, задумался:
— Чистый план участка под строительство есть?
Миша кивнул. Нашёл и положил перед отцом план.
— Ну вот, видишь, у тебя ошибка в привязке, ты не слышишь музыки ландшафта. Вот холм, можно использовать для беседки, вот спуск к реке, просто диктует лестницу. Иногда можно оттолкнуться от деталей, и они приведут к главной идее.
— И что здесь выдающегося?
— Что выдающегося? По моему разумению, здесь надо думать о человеческом и человечном. Вот это и будет самым выдающимся. Как сказал поэт,
Красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Вот погоди-ка, я тебе покажу кое-что из наших старых работ.
Он подошёл к шкафу, открыл, и на него посыпались папки и тубусы.
— Ох, это же я работы Юрия впопыхах кое-как пристроил.
Миша присел, помогая собрать рассыпавшееся.
— Да, ладно, па, я все понял. Не ищи и не показывай пока ничего. Сам подумаю.
— Ну что ж, тоже правильно. Не будем прерывать мысли вольное теченье. Пойду маме с ужином помогу.
И уже в дверях добавил:
— Прости мне мою неуместную иронию, не вовремя, понимаю…
Миша с облегчением вздохнул. Отец всегда давал очень дельные советы, подмечал главные ошибки, в другое время Миша и на шутливые издевки бы ответил, и замечания принял бы с благодарностью. Но сейчас все это только усиливало… нет, не боль, — нечему было болеть в покинутом доме, — а тяжёлые сомнения и неуверенность.
Миша собирал работы Юрия, стараясь представить, как и где сейчас его шеф, что там у него, и мрачнел все больше и больше.
Лист за листом укладывал он в папку работы… как вдруг… один эскиз привлёк его внимание. Работа была чудо как хороша: это было именно то, что искал и не мог найти Миша, и именно то, о чем говорил отец: небольшой комплекс был словно создан ветром и дождем, словно сам вырос здесь. Он засуетился, стал примерять найдённый эскиз к своей местности:
— Так-так, переориентировать только и.. идеально!
Пересмотрел остальные листы, проработку фасадов. Не было поэтажных планов , зато нашёлся один разрез, что значительно упрощало работу.
Вдохновлённый чужой мыслью, чужой работой, Миша принялся за свой проект.
Возникающие сомнения быстро глушились затейливыми рассуждениями об искусстве, о том, что нельзя хоронить в пыли небытия такие идеи, и он, Миша, как раз и занимается тем, что помогает прекрасному обрести звучание в вечности. И дело пошло веселее.
* * *
Люба теперь часто навещала Лемешевых, но только днём, не пересекаясь с Мишей. Это была идея Этели Моисеевны: в конце концов признать внука — это был ее выбор, Миша имеет право на свой. То и дело звонила Маша, от неё-то и узнала Этель Моисеевна, как развивались события. Она не корила себя, не жалела о содеянном, ещё в детстве крепко-накрепко усвоив присловье своей приёмной матери: нет такого плохого, что бы на хорошее не вышло.
Но как это часто бывает, визитами дело не ограничилось. Как-то зимой у Любы тяжело заболела тетка, случилось воспаление лёгких, от госпитализации, как у стариков водится, отказалась: «нет, уж, дома помру, сама, без чужой помощи»,- хрипя и задыхаясь, просипела она. Любе пришлось привезти сына к Лемешевым от греха подальше. Этель Моисеевна и Алексей Николаевич уже успели привязаться к ребёнку и были рады проводить с внуком больше времени. Радостная суета наполнила жизнь Этели Моисеевны. Так получилось, что ее старший внук вырос без ее неустанных забот: им всецело завладела другая бабушка, жившая в Ленинграде. И сейчас она наслаждалась радостным беспокойством за малыша; по улыбкам ребёнка, реакции на ее голос, по тому, как быстро тянет к ней ручки и восторженно сучит ножками, чувствовала она возникающую между ними связь . Как и все бабушки, воспитывавшие собственных детей в перерывах между работой или учебой, стоянием в очередях, хлопотами по кухне и дому, она неустанными заботами о внуках словно детям долг возвращала.
Была у неё и потаённая мысль: Этель Моисеевна надеялась, что у Миши проснётся в душе не любовь даже, а пусть интерес хотя бы к сыну. Ей было больно и за недолюбленного ребёнка, и за отца, в остывшей душе которого не пробивалось ни одного чувства.
И расчёт ее не пропал втуне. Впервые Миша взял на руки малыша, когда тот зашелся страшным криком в кроватке. Миша выскочил из своей комнаты, — рядом с ребёнком никого: Этель Моисеевна была в ванной. Подождал — не затихнет ли. Но нет, плач становился все отчаянней. Миша подошёл к кроватке, острожно взял на руки малыша, прижал к себе, чтоб не уронить ненароком. Он впервые видел сына так близко и, не скованный ничьим присутствием, пристально смотрел на горестное в плаче личико. Что-то укоряющее почудилось Мише в этих чёрных библейских глазах, наполненных слезами, в скорбно опущенных уголках маленьких розовых губ. Не зная, что делать, он стал покачивать сына, и зашептал, наклонившись над ним, прямо в прозрачное ушко: ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч! Ч-ч-ч-ч!
Младенец завертел головой, но затих, и так же пристально стал смотреть на незнакомое лицо. Михаил замер: таким проникновенным был взгляд. Ребёнок вдруг улыбнулся и цепко ухватил Мишу за нос.
— Смотри-ка, своего признал по характерному признаку, — засмеялась вышедшая из душа Этель Моисеевна.
Она давно стояла в дверях, наблюдая и не вмешиваясь.
«Процесс пошёл»,- не без иронии, но и не без удовлетворения, процитировала она про себя ставшее расхожим в ту пору выражение.
И как в воду глядела: Миша стал чаще общаться с сыном, ездил в молочную кухню за творогом и кефиром для него. А однажды утром Этель Моисеевна застала идиллическую картину: Миша, всю ночь работавший над завершающей стадией конкурсного проекта, забрал заплакавшего ночью малыша к себе в комнату, уложил в коляску и качал всякий раз, как тот принимался плакать.
Жизнь налаживалась, принимая понятные человеческие очертания, без затей и ненужных вывертов.
Поэтому, когда тетка выздоровела и Люба забрала маленького Алёшу, а дом Лемешевых сразу онемел и опустел, Этель Моисеевна не расстроилась, она знала: нет такого плохого, что бы на хорошее не вышло.
Эту пустоту вмиг онемевшего дома болезненно ощутил и Миша. Возникающая связь с сыном стала постепенно согревать выстуженную его душу, сумерки рассеивались, но до света и тепла было ещё далеко.
* * *
Миша, наконец, закончил проект, отдал все в мастерские на визуализацию. Он настолько уже освоился в авторстве — ещё бы, столько сделал: привязка к местности, переориентация, поэтажные планы — что и думать забыл о Юрии. Ещё день — другой — будет закончен макет, и можно будет отправлять в конкурсную комиссию.
Он расслабленно сидел у себя в кабинете, закинув на американский манер ноги на стол. Неспешно просматривал расписание на следующий месяц.
В дверь постучали. Миша убрал ноги со стола, пригласил войти. Дверь открылась. Миша вскочил от неожиданности, оторвалось в груди сердце и запрыгало, словно с горы покатилось, предательски затряслись руки и отхлынула кровь от лица. В дверях стояла Лана.
— Вы позволите? — спросила она.
Взгляд спокойный, уверенный и ещё какой-то … Что-то неприятное таилось в этом взгляде, что-то ранящее. Но Мише было не до оттенков чувств Ланы: он пытался совладать с собственными.
— Да,- прохрипел он и откашлялся, извлекая откуда-то из глубин пропавший голос. -Проходите, Лана.
Лана вошла и плотно прикрыла за собой дверь. Некоторое время постояла, опустив голову, собираясь с мыслями и силами.
— Вы отдали макетчикам проект?
— Да, отдал, а что случилось?
— Это ваш конкурсный проект? — спросила Лана, сделав ударение на слове «ваш».
— Мой, а что случилось-то? — нехорошее предчувствие разлилось в груди Миши.
— Так вот, Михаил Алексеевич, — продолжила Лана, игнорируя суетные вопросы, — я хочу, чтобы вы забрали ваш (снова с ударением) проект и отозвали своё участие в конкурсе, если вы ничего … другого не можете предложить.
Миша осел в кресло. Предпринял попытку выкрутиться или хотя бы выиграть время:
— Подожди…те, Лана, я как-то не совсем вас понимаю…
— А я вам сейчас все объясню, Михаил Алексеевич.
Лана подошла и положила перед ним … те самые недостающие поэтажные планы.
— Что это? — пролепетал Миша, но понял, что уже выдал себя страхом.
— А это, — Лана нависла над столом и оказалась вровень с ним, сидящим и вжимающимся в кресло все глубже и глубже,- это, товарищ архитектор проекта, — она перешла на почти на шёпот,- поэтажные планы, которые мне были поручены в качестве не совсем штатной работы, здесь и дата есть.
Ее лицо было так близко, что он смог прочитать в глазах то, что ускользнуло ранее, — насмешливое презрение, граничащее с брезгливостью.
Он внимательно рассматривал планы ничего не видя, лихорадочно придумывая, как выпутаться из ситуации.
— Лана, — наконец начал он, — я думаю, мы легко решим эту проблему, включив вас в проект как соавтора, раз уж вы занимались им.
— Вы меня не поняли, Михаил Алексеевич? Я повторю: отзовите своё участие в этом проекте. Потому что вы к нему не имеете ни малейшего отношения. Это плагиат чистейшей воды. Я не говорю уже о нравственной стороне этого вопроса, этот аспект, боюсь, слишком сложен для вас, я говорю о вульгарнейшем нарушении закона.
— Эээ.. Не слишком ли узко, Лана, смотришь ты на вещи? — обуянный страхом Миша не заметил как перешёл на «ты».- Не ради ли Юрия и искусства в целом я все это и затеял? Я имею в виду проект, конкурс. Ведь, согласись, это прекрасная возможность воплотить прекрасный замысел в жизнь! Кто будет спрашивать имя архитектора, Лана? А радость людям это принесёт, мир украсит! И с каких пор ты стала такой правильной? До занудства,- он попробовал пошутить, но и сам понял, что попытка вышла жалкой.
Лана молчала, с каким-то ужасом глядя на него. Миша, неправильно истолковав это молчание, попытался развить свою мысль, не желая замечать, как сбивается на откровенное словоблудие:
— Конечно, я не против верховенства закона, но я против того, чтобы закон — правила, установки, регламенты… убивали живую жизнь. Что такое, в конце концов, закон? Все эти правила, установки, регламенты?.. Это есть нечто временное, переменное, преходящее. А как может нечто временное, переменное и преходящее поднимать руку на вечное, неизменное и непреходящее? — словно по заколдованному кругу ходил Миша.- На жизнь, на творчество, на красоту! Как может оно стараться в чем-то урезонить творчество и красоту.., — он наконец замолчал, утомленный собственным изощренным витийством.
Снова воцарилось тяжелое молчание… Лана, не отводя от него взгляда, наконец с убийственной холодностью произнесла :
— Это вы из Щедрина сейчас читали, монолог Иудушки? Интересная интерпретация! В образе вы, как вижу, Михаил Алексеевич. Браво! Об артистической карьере не подумывали? — Лана забрала со стола планы быстрее, чем Миша сообразил, что их можно было бы просто не отдать ей. Она отступила от стола и твёрдо произнесла:
— Если вы не отзовёте своё участие в конкурсе и подадите не принадлежащий вам проект как свой, то я оставляю за собой право уличить вас в плагиате на любом этапе конкурса. И чем дальше, как вы понимаете, тем больше будет шума.
От волнения и страха Мишу снова понесло:
— Давно сказано, но, похоже, верно и по сей день, — высокопарно начал он , -«Когда гнев богов постигает человека, то прежде всего они, боги, отнимают у него здравый смысл и дают превратное направление его мыслям, чтобы он не сознавал своих ошибок»…
Лана уже не сдерживала злой иронии:
— Позволите это как самокритику расценить, товарищ архитектор проекта? Коль так, то это путь к выздоровлению.
Она направилась к выходу.
И уже совсем отчаявшись, Миша прокричал ей вслед нечто совершенно жалкое и несуразное, он и понимал, что совсем зарапортовался, но и остановиться уже не мог:
— Да! Ты ничем не рискуешь: в отличие от тебя, мне чужда злоба и мстительность… Но одним ты все же рискуешь — потерей собственного лица… Извиняюсь за тавтологию, но в моем лице ты его уже точно потеряла.
Лана на секунду остановилась в дверях, хотела уже было выйти, но не сдержалась, повернулась к нему, посмотрела долгим взглядом, усмехнувшись, покачала головой:
— Что ж, поздравляю вас, Михаил Алексеевич!
Теперь у вас на одно лицо меньше! Надеюсь, с оставшимися вам будет легче разобраться.
И так же недоуменно покачивая головой и усмехаясь словно самой себе, она закрыла дверь.
Миша дрожал словно от холода: тряслись руки, и зуб на зуб не попадал. Все чувства разом взорвались и перемешались в его душе: ему было страшно и стыдно своего страха; гнев переплетался с удивлением: как же он раньше не распознал в Лане стерву, а ведь казалась такой мягкой и покладистой, такой внимательной и заботливой. И злоба, да-да, злоба, душила, и ненависть накатывала, в общем, целая гамма чувств одолевала его. И только одного чувства не было в этой богатой палитре, простого, человечного и очищающего , — раскаяния.
(Окончание следует)
Эпилог.
В конце января 2016 года в салоне бизнескласса самолета British Airways Москва — Лондон, уютно утонув в кресле, лениво листая проспект выставки-конференции Architect at Work, сидел щеголевато одетый пожилой господин приятной либеральной наружности, с ухоженной аккуратной эспаньолкой.
Время от времени он переводил взгляд на плотный поток пассажиров, текущий в эконом-класс, по-европейски, как ему казалось, а на самом деле снисходительно улыбался тем, с кем случайно встречался глазами, и снова погружался в созерцание страниц журнала.
Почти последней в самолёт вошла хрупкая девушка с очень короткой стрижкой. И стрижка, и длинная шея, и большие глаза — все это вместе создавало впечатление трогательной беззащитности, чуть ли не сиротства, если бы не решительный подбородок и четко очерченная нижняя челюсть.
«Какое интересное лицо у этой девочки , — подумалось Мише (а это был именно он),- сильное и волевое, а глаза лани».
— Глаза лани — глаза Ланы , — эхом отозвался внутренний голос.
Кресло вдруг показалось ему совсем неудобным, он беспокойно завозился, выбирая более удобную позу, как человек, неловко задевший старую рану. За долгие годы он научился избавляться от призраков, обычно таящихся в страшных глубинах его сознания, но иногда они вырывались из темноты своих узилищ и, позванивая цепями, пугали Мишу жизнестойкостью, казалось бы, давно похороненного.
Он выработал целую систему физических и умственных ухищрений, помогавшую ему загнать терзающие его химеры обратно в мрачные бездны. Но это всегда стоило ему потери того замечательного чувства внутреннего покоя, ощущения комфорта, в котором он пребывал последние годы и которое очень любил, не забывая при случае заметить, что человеку творческому следует избегать самоуспокоения и житейского уюта, но к себе самому этого не относил, посколько непосредственно творчеством уже давно не занимался, а руководил собственной компанией ИМИДЖ, созданной ещё в 1995 году и оставшейся на плаву даже после 1998.
-Глаза лани — глаза Ланы,- упорствовал внутренний голос.
-Англичанка, наверное,- попытался он отвлечь того невидимого, кто изводил его этой ненужной игрой в ассоциации. Но услышал голос девушки, обратившейся к пожилой женщине на чистейшем русском.
-Глаза ла…
— Ну тогда из состоятельных, — быстро перебил нежеланного собеседника Миша, -учится, наверное, или по обмену летит.
Это, наконец, позволило ему ухватить спасительную ниточку, переключиться на своего младшего, тоже часто бравшего по обмену курсы в европейских университетах. Сыновья были Мишиной гордостью: старший уже вовсю занимался строительным бизнесом, сначала вместе с Мишей, потом «заприватил» собственную компанию и развернулся весьма и весьма лихо.
Младший, заканчивал ординатуру в Питере, Машка за ним приглядывает и считает будущим светилом нейрохирургии. Этот вообще все сам, все сам. Любой бизнес считает зашкваром, и посмеивается над беспокойством, проблемами и радостями отца и старшего брата. Зато с Машкой, как и с бабушкой, душа в душу.
Удивляло Мишу, что сыновья, при всей их одаренности и при всех возможностях, не рвались заграницу, (хотя младший брал курсы по обмену и на семинары ездил, но всегда с радостью возвращался домой), политикой себя не грузили, оба посмеивались над вечным политбрюзжанием отца, время от времени любившего воспарить критической мыслью или углубиться в проблемы богословия, с особой виртуозностью и их увязывая с гражданской позицией. Последнее вызывало особенную бурную реакцию:
— О нет! — вопил младший.- У папы опять приступ православия головного мозга!
— Па, ну хва политоты! Это не в тренде! -заливался безудержным смехом старший.
Взлёт самолета на минуту прервал канитель Мишиных воспоминаний, он бросил последний взгляд на заснеженные новостройки Куркино, Алёшковский лесопарк, муравьиную суету в растущем как на дрожжах Путилкове, хорошо знакомым ему и его мастерской.
Миша завозился, проверяя, вернулось ли чувство умиротворения, прислушался, но что-то ещё мешало ему до конца насладиться полетом. И он снова потянул паутинку, виток за витком плетя ловушку для призраков.
— О чем это я? А! Сыновья, — с удовольствием вспомнил он.
Сыновья стали главной любовью Михаила; с женой не складывалось: ненавистная ему готовность страдануть, показное смирение и любовь к обидам доводили Михаила до исступления, и время от времени он срывался на крик. Стыдный, бабий, истеричный. Ругал себя потом, обещал не срываться, но через какое-то время снова не мог унять визгливое бешенство. Раньше старался, чтобы сыновья не слышали (от стариков давно уже съехали), но дети все чувствовали. К отцу, с его проповедями высокой морали и духовности, относились с мягкой иронией, называя за глаза моралфагом*). Но теперь мальчики из гнезда вылетели, встали на крыло. Стыдиться стало некого…
Подали горячие салфетки, звякнули тарелки, зазвенели бокалы, послышались хлопки открывающегося шампанского.
Мишины химеры были плотно окутаны липкой паутиной праздных размышлений. И он, уже совершенно обретя чувство потерянного было баланса, поднял бокал предложенного шампанского, с удовольствием глядя на тонкие нити пузырьков, и с наслаждением сделал глоток.
В зимнем Лондоне Мише бывать ещё не приходилось, его поразило исчезновение красок, мрачноватые переливы от чёрного к серому и белому. В чёрном кэбе, точно таком, как и много лет назад, Мише подумалось, как это, наверное, славно — жить с чувством стабильности, незыблемости, во всем: от Короны до вот такой небольшой чёрной машинки.
— В Кенсингтон, отель Олимпия Хилтон, через Грэйт-Вест-роуд, пожалуйста, — уточнил он, заранее посмотрев в Гуглмапс возможные варианты маршрутов.
Он был рад, что мероприятие состоится в Кенсингтоне, любимом им районе, в выставочном зале Олимпия. Он и отель заказал неподалёку, чтобы можно было прогуляться по Кенсигтонским садам. Не весна, конечно… Но все равно, цивилизация, черт возьми, свобода, уважение к закону — в общем, «одни сплошные ништяки», как сказал бы младший.
Перед Брентфордом оказались в пробке, пришлось уйти влево, и ехать через Саутолл.
Таксист помрачнел:
— Ужасное место! Но и здесь увязнуть не хочется.
— Чем ужасное? — полюбопытствовал Миша.
Водитель ответил что-то невнятное.
Минут через 10-15 они въехали в Саутолл…
Первое, что бросилось глаза, — минарет мечети, который Миша увидел через ветровое стекло. Они проезжали мимо грязных улиц с базарчиками-развалами на каждых десяти метрах, по улицам ходили закутанные до пят сомалийки или бог знает кто.
— А местных здесь не видно, боятся или работают? -спросил он у шофёра.
— А это и есть местные, -сердито ответил таксист и добавил, смягчившись,- давно не были здесь?
По бокам улиц убогие лавочки пестрели рекламой на арабском и каком-то совсем уж непонятном языке, и только на длинном заборе зеленела надпись на английском: «Нет бога , кроме Аллаха и Магомет пророк его!», повторенная тут же арабской вязью. Мальчишки в тёплых шапках и куртках бежали за машиной и норовили пнуть или плюнуть, выкрикивая по-английски ругательства и показывая третий палец.
— А вот и плоды европейского образования,- с глухой тоской подумалось Мише.
Последние пару километров водитель проскочил с явным превышением скорости, словно прорываясь к своим.
Начался типичный английский пригород, с небольшими аккуратными домами и ухоженными садиками, но и сюда доносились ветром грязные пластиковые пакеты и кружили, кружили в воздухе, словно выбирая, где осесть поудобнее…. Миша обернулся: Саутолл уже скрылся, и только высокая башня минарета отсюда, со стороны лондонского предместья, смотрелась особенно нелепо и угрожающе.
Бог его знает, почему увиденное так поразило Мишу… Он не мог не замечать, как превращался в восточный рынок любимый его Монмартр, видел, что стало с Палермо, негодовал в некогда чистеньком и аккуратненьком Комо, обезображенном таборами беженцев. Но Англия… Он так давно здесь не был… Она всегда, со времён книги Овчинникова «Корни дуба», казалась ему символом всего лучшего, что могла дать цивилизация. И вот… И монархия не спасла…
Чтобы избавиться от неприятных раздумий, Миша попросил таксиста сделать круг по Сити и Вестминстеру, а затем уж вернуться в отель: хотелось посмотреть как изменился Лондон за последние… Миша задумался… боже мой!… 34 года…
Водитель повеселел и даже оказался неплохим гидом. Но гид Мише был не нужен. Он погрузился в свои прошлые раздумья и ощущения. Вспомнил, как бродил с восторгом и болью по набережной Темзы, наслаждаясь шумом и жизнерадостной суетой, светом и какими-то дивными запахами. Приветливые лица, туристическая беззаботность, смех на улице, портреты всенародной любимицы, не комсомолки, не спортсменки, а просто красавицы и просто принцессы Дианы… И на страже этого — Биг Бен, строгий силуэт здания Парламента, неспешное течение Темзы… Все казалось незыблемым и недостижимым… Как это было далеко от мрака, серости, бесконечных очередей, озабоченных угрюмых лиц, от бодрых политинформаций из каждого утюга и фото старцев Политбюро … Как неловко он себя чувствовал! От тоски и отчаяния холодела душа. «Эмигрировать?»- впервые подумалось ему тогда. Но он представил долгие мытарства, изнурительный путь наверх без связей, без поддержки… Нет, никогда не стать ему равным среди равных, никогда не быть ему частью этого светлого, полного беспечности и уверенности мира вековых традиций и непрерывающихся судеб, где жизнь в своем торжественно-счастливом однообразии текла, как «Болеро» Равеля.
Миша отвлёкся от воспоминаний: он не узнавал города, каждый изгиб которого отпечатан был в его сердце. Огромные башни -небоскрёбы высились в Сити, рядом с Тауэром. Вместо Балтийской Биржи вкручивалось в небо гигантское веретено Мэри Экс, Фостера, знаменитый «Огурец».
Бросая вызов Тауэру, на противоположном берегу Темзы, кичливо сверкал «Осколок».
— Интересно, у них тут тоже битвы были по поводу строительства монстров? — почувствовав укол разочарования, подумал Миша. — «Осколок»-то уж слишком доминирует.
Но родившееся чувство Мише понравилось. Вот он, удачливый бизнесмен, совершенно спокойно рассматривает без всякого душевного трепета архитектурные новшества города своей мечты, даже замечает недостатки… Нет, нет уже чувства несоразмерного расстояния между ним и волшебным миром.
И с этим приятным переживанием он спокойно направился в гостиницу.
* * *
Утро выдалось хлопотным. Надо было зарегистрироваться, определиться с темами лекций, семинаров. Такие конференции Миша очень любил: новые места, весёлая суета, общение, новые контакты,- все это не только приятно разнообразило рутинное существование, но и при удаче открывало новые возможности для бизнеса. Выбрал несколько интересных ему мероприятий и в приподнятом настроении направился осматривать выставку. В залах царила радостная деловитость, праздничная атмосфера и ощущение дружеского единения людей, занимающихся одним делом. Мишина походка обрела вальяжность и даже некую барственность.
В центре главной линии выставки, прямо перед ним, небольшая группа что-то живо обсуждала, подходили и другие, кто-то здоровался, жали друг другу руки, похлопывали по плечу — этакое братство. Миша замедлил шаг, пытаясь представить, кто они, эти люди, встретившиеся на большой международной выставке. Однокурсники? Бывшие коллеги?
Женщина, стоявшая в группе к нему спиной, вдруг, словно почувствовав что-то, быстро обернулась, скользнув по нему взглядом, и снова было вернулась к оживленной болтовне. Но несколько секунд спустя обернулась снова, уже пристально глядя на него. Улыбка ещё не сошла с ее лица, а в глазах уже появлялось серьезное внимание и удивление.
Миша запаниковал раньше, чем узнал Лану.
Он остановился в растерянности…
И стремительной короткометражкой пронеслись перед ним все события того злосчастного дня, так живо, что прежний стыд захлестнул его. Не стыд раскаяния, но тот, что испытывает, должно быть, каждый застигнутый на месте преступления, стыд со злостью, с досадой, с негодованием, не за само содеянное, а за то, что оно вышло наружу. Все, все до мельчайших подробностей промелькнуло перед ним: как напился, потому что не мог справится со страхом разоблачения, как его, пьяного, пожалела Люба, оказавшаяся с маленьким Алешкой у них дома, как он принял эту жалость, с каким-то остервенением отрезая себе все пути назад, руша все мосты. Вспомнилось, как день спустя отец с изумлением, горечью и с подозрением даже рассказал ему, что приезжала милая девушка по поручению Юры забрать его работы, как хотел спросить, не Лана ли, но вопрос так и застыл на его губах при виде вмиг посеревшего лица сына. А ещё день спустя, Миша снял таки «свой» проект, зашёл в мастерскую, распорядиться, что макет не нужен, и новой пощёчиной прозвучал ответ: «Так мы и не приступали, Лана сказала, что вы отменили». Вспомнил, как глушил себя какое-то время алкоголем и каким-то мазохистским сексом с Любой; потом затих, перестал пить, смиренно поплыл по течению…
Он был в центре экспозиции «Возможности усиления несущих конструкций», свернуть было некуда, оставалось лишь надеяться, что не все возможности несущих конструкций были использованы при строительстве этого комплекса, и у него ещё есть шанс провалиться в тартарары.
Лана все ещё смотрела на него, теперь уже с мягкой иронией, без труда читая все, что происходило в его душе. Миша понимал, что стоять с таким видом было глупо, вся вальяжность слетела с него, он жалко ссутулился, словно желая стать невидимым. Но долгий взгляд Ланы не остался без внимания, и вот уже все, расступившись, в замешательстве воззрились на него. Ситуация становилась неловкой, тут Лана отделилась от группы и направилась к нему. И тут же, вслед за ней двинулся и другой человек, богемного вида, высокий, поджарый, несмотря на возраст.
Он тоже пристально, знакомо щуря глаза, вглядывался в лицо Миши, и вдруг его лицо озарилось молодой улыбкой.
— Миха! — не скрывая удивления воскликнул он.
— Юра? -совершенно смешавшись, произнёс Михаил.
Лана уже была рядом:
— Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Сколько лет, сколько зим! — подчёркнуто отстранённо произнесла она с легкой насмешкой, не подавая руки.
— Миха! Ты? Вот это да! Какими судьбами? Ланочка, ну что это за официоз! Как не стыдно! — в голосе будто дружелюбие, но и издевка. Или Мише это только кажется?
Юрий, извинился, вышел из группы окружавших его студентов и направился к нему. Похлопал по спине, даже словно приобняв, отступил, одобрительно рассматривая бывшего подчиненного.
— Хорош! Как всегда франтом и годы тебя не берут!
Миша натужно улыбался, пытаясь оценить ситуацию, но волнение и противный страх мешали ему понять, игра ли это или искренний порыв.
— Если искренне, то не знает или простил? А если игра? — мучился он.
И, не найдя ответа, как всегда, поплыл по течению:
— Вот это да! Ну кто бы мог подумать! — не понимая, с истинной ли радостью или просто подыгрывая, откликнулся он.
Но Юрия не обнял и ладони не протянул, все ещё страшась, что ее не примут, а наоборот, отошёл и всплеснул руками, демонстрируя восторженное изумление.
Юрий, словно не замечая напряженности старого приятеля, сыпал восклицаниями, вопросами, которых было так много, что к счастью Михаила, ещё не совсем оправившегося, они не требовали ответов.
Миша во все глаза рассматривал Юрия, не решаясь взглянуть на Лану. Сколько ему? О черт! Под семьдесят! Поразился Миша и цифре и моложавости, хотя и самому было шестьдесят пять, не намного меньше.
— Ого, да ты профессор! — воскликнул наконец с неподдельным изумлением Михаил, разглядев бейджик Юрия. — Никогда бы не подумал, что тебя потянет в науку.
— А! — раскатисто засмеялся Юрий.- И я не думал! Но это долгая история! — и вдруг без всякого перехода распорядился. — Так, ребята, сейчас мы отсюда линяем и валим в одно место здесь неподалёку. Все равно сегодня ничего интересного сегодня ещё не будет, а экспозиция никуда от нас не убежит. Надо жахнуть водки по такому поводу! Ты ведь не против? — обратился он к Лане.
— Да пойдём, пожалуй, — с ироничной усмешкой ответила Лана, открыто разглядывая Михаила.
Мишу рассмешили не слишком вяжущиеся с обликом профессора молодцеватые и подзабытые «линяем» и «валим», «жахнуть», он стал оттаивать.
Дорога оказалась неблизкой, но было приятно пройтись по легкому морозцу, дыша запахом мерзлой зелени, рассматривать укутанные плющом стволы деревьев, глазеть на прохожих, двухэтажные автобусы, красные телефонные автоматы (поди ж ты, и они сохранились!), немного теряясь от «неправильного» английского движения.
Кафе L‘Opera of Bromton, оказывается, любила Лана. Всю дорогу Миша искоса рассматривал ее. Нет, не угадала Машка, Любой она не стала. Она оставалась все той же Ланой, Миша не замечал и не думал даже, коснулся ли ее возраст, видел ее прежней и все тут.
Было приятно после после долгой прогулки, войти в уютное тепло кафе, где пахло свежей выпечкой, шоколадом, чаем и ещё чем-то исключительно английским, как казалось Мише. Здесь он наконец приблизился к Лане, помогая ей раздеться, воспользовавшись тем, что Юрий замешкался где-то. Он видел ее руки, отмечая все ту же беглость и хрупкость пальцев, не замечая морщин и небольших пятен на тыльной стороне ладони. Ее щека была так близко, только слегка склониться и… Едва уловимый запах, немного иной, с другим оттенком, но все равно памятный и узнаваемый, одурманил его, заставив забыть обо всем:
— Ты поменяла духи, — тихо сказал он.
Лана замерла на секунду, потом легко выскользнула из пальто, обернулась и все с той же улыбкой произнесла:
— Я поменяла возрастную группу, если ты заметил…
— Нет, не заметил.., — честно ответил Миша.
— Так, столик у нас есть! — радостно провозгласил появившийся Юрий. — Здесь всегда народу много, пояснил он Михаилу, но сейчас ещё время раннее.
Он хотел было усадить Мишу рядом с Ланой, а сам сесть напротив, но Миша воспротивился:
— Нет! Я — напротив, а вы уж вместе, хочу видеть вас обоих,- близость к Лане, возможность нечаянных прикосновений его испугала.
«Жахнули» водки, хотя Миша с тех ещё времён крепче сухого вина ничего не пил, но отказаться было неловко. Юра с Мишей чокнулись, Лана же лишь приподняла свою рюмку, кивнула, глядя на Мишу, молча выпила.
— Как за покойника, -подумалось Мише.
Но все же алкоголь снял напряжение. Разговор полился свободнее. Поговорили о стариках. Потом переключились на детей. Мужчины снова «жахнули», а Лане принесли бокал красного вина. Говорили, забывая о еде, все больше увлекаясь, и все больше и больше проникался Миша прежним доверием к бывшему приятелю.
Он рассказывал о том, как непросто было создавать и держать на плаву собственную мастерскую в эпоху постоянных перемен.
Юрий внимательно слушал, сочувственно и понимающе кивал:
— Вот ты не ожидал, что я наукой займусь, а я всегда чувствовал в тебе это умение взять быка за рога.
Миша усмехнулся:
— Ну… умение, скажешь тоже. Жизнь заставит сопливого любить, как говорит моя мама, хотя в моем случае, правильнее было бы сказать «сопливую», — произнёс он и покраснел, осознав неприятную для него двусмысленность фразы.
Юра двусмысленность истолковал по-своему, хохотнул:
— Ну, в наше время один, так сказать, хрен, если не быть сексистом. Нет-нет! Не скромничай, Миша. Ты ведь талантище!
— Да брось ты, какой я талант, Юра! Я творчеством настоящим уже сто лет не занимаюсь, набрал толковых ребят, вот они творят, а я … менеджер. Удобное слово! Что захочешь, то и будет значить, — искренне и с горечью возразил Миша.
— Ну нет! Не творишь, потому что не надо, зато видишь проект, ценишь свежую идею, умеешь ее подать! А это дорогого стоит! Ты зажечь умеешь! Думать заставить!
Миша сидел совершенно оглушённый похвалами, не веря, что это говорит человек, у которого он украл проект.
«Так он не простил, он просто не знает, Лана не сказала ему»,- почему-то с ужасом осознал он.
-Я помню твои лекции, мы и с Ланой были и один я приезжал! Ты так умел охватить и подать материал, что невольно рождались какие-то идеи!
Миша мельком взглянул на Лану:
-Господи, да что ж она все молчит.., -с тоской подумал он,- и усмешка ее, и взгляд этот холодный, словно ждёт чего-то… И Юра с его восторгами и похвалами, ах, как это все душу тянет…
И он, сам не ожидая от себя, вдруг произнёс:
— Слушай, Юра… Вот по поводу идей и вообще … проектов, мне давно следовало бы сказать… признаться… Ты помнишь, был у тебя проект дома отдыха или уж не помню чего.., но ведь я хотел было… — он замолк, так трудно было облечь в слова то, что было с легкостью сделано.
— Ты шутишь… сколько времени прошло, надо в архивах посмотреть, Ланочка давно отцифровала все, — он с любовью посмотрел на жену, и в глазах Ланы на мгновение растаял лёд, пока она смотрела на мужа.- А что, идея хороша была? Понравилась? Ну, чего каяться, мы все в молодости используем чьи-то идеи, отталкиваемся от чего-то чужого, а создаём уже своё, многие и в зрелом возрасте этим грешат. А ты с покаянием бог знает за что!
Для него, человека давно живущего по собственным законам творчества, с собственными идеями, рождавшимися в таком количестве, что труднее было с выбором определиться, самым большим грехом оставался грех не преодоленного вовремя ученичества.
— Все в прошлом, Миша. Ты своей работой доказал это и успокойся!
Но Миша уже не мог остановиться: была невыносима мысль, что это не о нем говорит Юрий, что это чужой чей-то образ, невыносимо молчаливое ожидание Ланы, («Теперь у вас на одно лицо меньше, возможно, с остальными вам будет легче разобраться»,- кажется так она сказала ему тогда), и он уже решительно продолжил:
— О нет, дело не только в идее!
— О, черт! — воскликнула Лана, вскочив с кресла: по ее белой блузе расплывалось корично- красное винное пятно, — простите, мимо рта пронесла, переполошила вас. .
— I am sorry, it’s my fault! — с улыбкой сказала она подскочившему официанту и обратилась к мужу,- Юра принеси мне, пожалуйста, шарф, прикроюсь.
Миша с трудом одолевал какую-то странную для него мысль, не отрывая глаз от лица Ланы. А лицо ее оттаяло, взгляд утратил льдистость, обрёл участие и чуть ли не сострадание. И с Мишей впервые в жизни случилось нечто небывалое, то, что никогда ранее не могло бы произойти. Он всегда так сосредоточен был на себе, что никогда не чувствовал, не понимал до конца ни одного человека, даже сестру свою, даже детей. А тут вдруг в несколько секунд открылось перед ним, все, что было на душе у Ланы:
— Господи! Она же не покаяния моего хотела, а осознания, осознания моей подлости. И Юре ничего не сказала не потому, что пожалела меня, а потому, что оберегала его.
— Спасибо! — выдохнул он.
— Welcome… — по-доброму улыбнулась она, потом засмеялась и добавила, — Welcome home!
— Ты непостижимая женщина! — засмеялся и он.
— Ну наконец-то ты вы смеётесь! Что случилось?
— Рухнула Берлинская стена! — вдруг хором и с одинаковой шутливой торжественностью провозгласили они, и даже не удивились, а только засмеялись громче и безудержнее.
Но в отеле Миша вдруг расплакался, совсем по-детски, в голос, всхлипывая и сотрясаясь всем телом, размазывая слезы кулаками по лицу…
* * *
Во сне он видел волшебную колдовскую ночь, алмазное сияние равнодушных звёзд в чёрной вышине; снилось, как костёр в сатанинской пляске со злобной завистью плевал в высокое тёмное небо снопами искр, как звезды с презрительным любопытством взирали на смешную возню скоротечной страсти. Снилось, как звезда оторвалась от бархата ночи, а потом обратилась в девушку, маня к себе Мишу. Девушка была диво как хороша, особенно глаза, искренние, чистые, лучащиеся, вполне себе сравнимые со звёздами, но тёплые и такие близкие. И во сне Миша пошёл за девушкой-звездой, но чем дольше он шёл, тем дальше она становилась. И вот он уже не идёт, а летит в бескрайней вечной тьме, но девушки нет, и есть только тьма.
И тогда он услышал крик, полный боли и скорби. Это он сам, весь, до последнего атома, обратился в этот нечеловеческой силы вопль, донёсшийся до чёрного неба, нет, выше неба, потому что ставший криком Миша видел рядом с собой планеты и звезды; это им в своём вселенском гневе, обиде и протесте кричал он, кричал так, что плоти его уже и не осталось и нечем было кричать, а чудовищный звук все рвался и рвался к равнодушному холоду Вселенной, требуя ответа. Но ответом было ледяное безмолвие Неотвратимости. И лишь несколько слишком субтильных звёзд отлетели подальше, чтобы оградить свою безмятежность.
Примечания
* Моралфаг. Мораль и духовность вытесняют значительную часть серого вещества, блокируя возможность мыслить. Как следствие, поциент проявляет:
— квазиобладание квазизнанием «Высшего Блага»;
— патологическую уверенность в своей правоте;
— игнорирование взаимоисключающих параграфов и фактов, которые противоречат собственной картине мира;
— упоротость упёртость;
— показная жертвенность своими и особенно чужими благами;
— элитизм;
— агрессивность, мгновенные переходы в споре на личности и строгое деление на «своих» и «чужих»;
— абсолютная беспощадность к врагам.
Мужчина и женщины
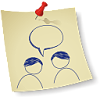












Прочитал (первую часть).
Все очень жизненно и мне понятно.
Надуманности нет. Сюжет не представляется банальным, поэтому читается с увлечением и интересом.
Язык, как всегда на высоте — «бугристые мешки с картошкой» — я бы так не смог точно написать. В некоторых случаях описательные части мне показались затянутыми, отвлекающими от сюжета, но все равно читаются.
Многоярусных лавочек у подъезда никогда не встречал, но, как образ к месту.
Хочется продолжения.
Спасибо, Левон. Очень признательна тебе за то, что нарушил столь тягостное для меня молчание. Наверное, как всякого дилетанта меня всегда мучает вопрос: надо ли страдать фигней. Тем более, что существует огромное количество менее затратных с точки зрения времени и эмоциональных усилий способов профилактики Альцгеймера :-))
Про лавочки разъясню: описывала свой длинный дом, стоящий на краю поля в Видном. Там лавочки стояли не около подъездов, а двумя рядами вдоль дороги:
Одни поближе к дороге, вторые ближе к детской песочнице. Вот поэтому и окрестила их партером. Ну а балконы — это просто балконы, с которых, как известно, открывается более широкий вид.
И ещё: у меня нет ни одного описания ради описания: все вплетено в веночек с определённой целью :-))
Лучше страдать фигней, чем от фигни.
Аллочка, дорогая!
Я прочитала начало вашего рассказа «залпом», если можно так выразиться. Чудесно написано, как всегда потрясающий слог, уверена, что и сюжет будет таким же интересным. Бог в помощь!
Юля, дорогая, спасибо! Кому как не вам знать, с каким ужасом ждёшь первых комментариев! Особенно, когда их долго нет, то каждые 5 минут обновляешь :-))
И мысли самые разные, но лейтмотив один: «Зачем?! Зачем я снова в это вляпалась?!»
:-))
Поэтому каждый полученный, тем более от вас, комментарий лечит и вправляет грыжу самобичевания. Ещё раз — спасибо!
Обнаружил неожиданные ассоциации с моим «Мужичком», даже в названии, даже в комментариях Левона: «все очень жизненно и понятно» (про мужчину и женщину), «вневременная актуальность и востребованность (про мужичка) — так можно сказать про оба произведения.
«Бугристый мешок с картошкой» — мне тоже это запомнилось, показалось, что это неосознаное (а может быть и осознанное?) олицетворение (есть еще ученое слово прозопопея) cамой Любы. Но в тексте есть еще и «обтрушечка». Вот этого слова я никогда не встречал, нет его и в гугле. Кстати прочитал текст и забыл это слово, пришлось перечитывать по второму разу почти до конца, но время не потерял. В целом живо, сочно, интересно, жизненно. Эпиграфом к рассказу предлагаю использовать «А кто-виноват-то? Известно, le femme».
Андрей, спасибо за отклик и тонкие наблюдения. Особенно приятно, что комментарий твой написан (осознанно или нет) с той мягкой иронией, которую я изо всех сил хотела использовать в некоторых эпизодах. Надеюсь, что получилось. Удивилась было, что не слышал выражения «обтрушечка вышла», думала, оно в употреблении, погуглила — нет. Значит, наше, домашнее. Ну вот, может, хоть выражение это останется :-D
По поводу комментов Левона, думаю, у него пара-тройка заготовок в наличии, их везде и использует. (Левон, шучу! Пиши только, а уж как — неважно)
Р.S. «Прозопопея»- прекрасное слово, прозаическая попия — очень емкое и говорящее :-)
О прозопопее.
Вы, наверно, знаете, что в этом мало употребляемом слове, ударение ставится на предпоследней букве «е»?
Занятно, как от ударения может меняться рифмованно-смысловое ассоциативное восприятие.
Если, к примеру, ударение стояло бы на 3-ем «о», то ассоциативный ряд вертелся вокруг попы.
К примеру:
— ты просто попа;
— роза в попе;
— проза попы.
А если на я:
— просто поменял
— просто попенял;
Ну, а в нашем случае
— просто попел я;
— просто пойми меня
Ну, и из прозы — попа у нее была прозаическая.
Всегда говорил и снова скажу: выше всяких похвал и на уровне лучших образцов… Писать, писать и еще раз — писать! И… публиковаться! Думаю, любое издательство с радостью возьмет…
Спасибо. Постараюсь и дальше тебя не разочаровать.
Не уверен, можно ли использовать нижеследующее воспоминание в качестве комментария, но, надеюсь, Алла меня простит.

Когда мне было 10 лет, маме удалось выбить две путевки в Кисловодск в санаторий матери и ребенка. Я был счастлив. Прекрасно помню полет на Ту-104 из Москвы в Минеральные воды с вынужденной из-за грозы остановкой в Ростове-на-Дону. Первые две недели мы провели превосходно, отдыхали и лечились. А потом в санатории началась эпидемия скарлатины и я заболел. Меня на машине с сиреной (вот был кайф!) отвезли в инфекционную больницу на железнодорожную станцию Минутка на окраине города. Больница представляла собой несколько бараков, внешний и внутренний вид которых вполне соответствовал названию. Нам выдали пижамы в полоску. Положили меня в компании трех таких же пострадавших мальчиков в отдельный барак. С нами вызвался отмотать срок папа одного из заболевших, самого маленького по возрасту, ему было лет пять. Один парень был из Ивано-Франковска, один из Одессы, а мальчик с папой — из какого-то далекого сибирского городка. Пролежали мы неделю или больше, компания была неплохая. Папа с нами играл и беседовал, при этом, будучи человеком простым, частенько применял в разговорах разнообразные выражения. Одним из таких выражений было то, которое употребила Алла, а вернее ее герой, в своем последнем рассказе. Когда мы вернулись домой, в аэропорту Внуково нас встречала бабушка. Она, конечно, стала задавать вопросы, как отдохнули (мама ей не писала, что произошло, чтобы не нервировать). Я ей стал отвечать и употребил соответствующее выражение, к месту уж или не к месту я не могу вспомнить. Бабушка испытала двойной шок, и от того, что я попал в больницу, и от того, чему я там научился. Больше я этого слова не употреблял, вообще забыл, и вспомнил только сейчас, прочитав рассказ Аллы.
О появлении слова.
На заре своей юности я работала в мастерской Весниных. Директором был Вахтангов С.Е., величественный старикан, красавец, интеллигентнейший человек. И вот это слово, долго выпевая букву ё-ё-ё, произнёс С. Е, рассматривая проекты и думая, что он один. Я долгое время не связывала это с ругательством (все, что я часто слышала до этого было весомо, грубо, зримо — ни с чем не спутаешь), пока однажды в отдел не влетела, смеясь, молоденькая архитектор со словами: «Ой, а С.Е. матом так смешно ругается!»
Андрей, конечно, воспоминание твоё более чем уместно, но печально сознавать, что только это слово тебя и зацепило….
Ты же понимаешь, мы, дилетанты, люди трепетные … :-))
Алла, нет, не только это слово зацепило, второй мой комментарий об архитектуре. Когда я читал вторую часть рассказа, то удивлялся твоим познаниям в этой области. Потом вспомнил, что в комментарии yна пост про поход на Остоженку ты упоминала свою работу в мастерской Весниных. Я тоже имею некоторые познания в области советского архитектурного модерна, но фамилия Будиловского была мне до настоящего момента неизвестна. Я бывал в Киеве, и как-то раз останавливался в районе Оболонь, но на эти дома-ромашки никакого внимания не обратил. А жаль. Спасибо, это очень интересно. Надеюсь в следующих частях архитектурные моменты будут иметь продолжение, раз уж один из главных героев архитектор.
Ну вот, уже лучше, можешь же, когда хочешь! :-))
Андрей, в мастерской работала около полугода в качестве зашкапной (мой стол стоял за шкафом) чертежницы сразу после школы, а потом поступила в институт. Мало что помню из той поры. Вахтангов только врезался в память. Ну, оно и понятно. Конечно, знаю кое-что о русском модерне, но о периоде 70-80-ых узнала в процессе работы над рассказом, одновременно искала эмигрировавших архитекторов (наткнулась на Будиловского, заинтересовал не только ромашками, но и проектом монумента для Бабьего Яра, который так и не был востребован), интересовалась их судьбой, и в гугле же нашла иерархию архитекторов.
В следующей части поделюсь ещё одной интересной находкой, но с архитектурой она не связана. Интригую…
Это Освенцим или Дахау? Во всяком случае никак не вяжется с расхожей концепцией «нашего счастливого детства».
На всякий случай пошли Меркель: говорят, там разным блокадникам, интернированным, перемещенным и т.д. неплохие компенсации платят…
(к 2-ой части)
Аллочка!
Жду с нетерпением продолжения. Очень интересно. Вперед!
(к 2-ой части)
Ждал во второй части развязвания узелков из первой.
Как всегда это происходит с Аллой, не угадал.
Количество узелков лишь возросло. Произведение явно выходит за рамки рассказа.
Но останавливать автора совершенно не хочется. Готов и к повести, и к роману.
Языковые перлы — знакомые и не очень лишь подогревают читательский интерес и любопытство.
Буду перечитать, наверняка найду еще что-нибудь.
Левон, спасибо. Высоко ценю, что отошёл от принципа читать все целиком: мне так нужна непосредственная реакция.
Про узелки, даааа…. как бы вот теперь самой в них не запутаться, а распутать вовремя…
К вопросу о неточной цитате из письма Чехова брату Николаю.
Поискал, погуглил. Цитату не нашел, обычно цитируется другое письмо Николаю, где ничего такого нет. Есть еще письмо издателю Суворину, вот там есть про «тараконов». Вообще выясняется (раньше как-то мало об этом читал), что Антон Павлович в жизни выглядел cовершенно не таким рафинированным моралистом с бородкой и в очках, как нам представляли. Особенно это видно по письмам. Что, конечно, радует. Недаром наверное, моя бабушка, любила перелистывать последний том собрания сочинений с этими письмами. А вообще Чехову надо еще один памятник поставить хотя бы за его поездку на Сахалин.
Письма Чехова читала много раз (тридцатитомник, сочинения и письма). Брату Николаю писал особенно часто, когда тот переставал работать.
Рафинированным не был, любил соленые шутки. Так, например, описывая купленный дом без удобств даже во дворе, писал: «под ближними кустами часто вспоминаю мадмуазель Сиру».
Письма, написанные на Сахалине, оставили сильнейшее впечатления, причём столь явственными картинами, будто сама все это видела.
У нас было (да и сейчас есть) 12-томное собрание Чехова (серого цвета). Выходило с 1960 по 1964 год. У нас была подписка, тома приносил почтальон раз в два-три месяца. Бабушка очень ждала этих визитов. Получив новый том она выкуривала беломорину и принималась за чтение. Письма были в последних томах, вышедших в 1964 году.
Маленькое критическое замечание по поводу фразы «…наполняя жизнь многолюдного двора смыслом и жгучим интересом, сопоставимыми разве лишь с “Санта-Барбарой”.
Ну не было во времена Шекспира сигарет «Друг». Не было еще в те времена «Санта-Барбары».
Я бы отредактировал примерно так: «…интересом, сопоставимым разве лишь со страстями в фильмах Витторио де Сика»
Но это на усмотрение автора.
Андрей, ты не совсем прав. В первоначальном варианте была «Рабыня Изаура», которая преследовала меня с Варшавского периода. Но, проверив, увидела, что в СНГ этот сериал появился в 1988 году. Относительно «Санты Барбары» конкретных сроков указано не было (84 год в США, и в Варшаве тогда же), но начали смотреть его в СНГ с 217 серии. Для меня же это символ «мыльной оперы», думаю для всех тоже. Попуталась я не с этим. Но не скажу где. Попытаюсь вырулить как-нибудь. :-)) А ты можешь быть исследователем моего творчества и писать в комментариях: «Здесь писателю, видимо, изменила память, т.к. первые сериалы появились в СНГ только в 88 году.»
:-))
Продолжая разговор о прозопопее. Лучшим примером на эту тему считаю маяковское:
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.
Вообще непонятно как должен быть построен ум, чтобы это представить и выразить стихом.
У меня была мысль вставить привет Алле, упомянув «бугристый мешок с картошкой» в своем последнем рассказе, но сдержался. Все таки тема серьезная. Между прочим нашел в гугле, что в совхоз «Астапово» ездили на картошку не только бауманцы, но и студенты московского Педа. Хотя в рассказе у Аллы упомянуто Раменское, так что здесь «cкрещения судеб» вряд ли возможны
Андрей, вот «лысый фонарь», сладострастно снимающий чулок,- это, конечно, прозопопея. «Бугристый мешок» же — нет. Это, скорее, метафора, в более удаленном ее смысле от олицетворения.
Я совершенно не помню, куда мы ездили на картошку в институте. Раменское как-то само в сознании подвергнулось.
За всех не скажу, но я-то точно сильно заждался продолжения рассказа. Уже и фабулу подзабыл, одна прозопопея в голове осталась
Это комментарий — буёк, указывающий местоположение рассказа. А то Левон поленился уведомить здесь, вот и ищи его -свищи его.
Буду рада, если возникнут какие-нибудь споры, дискусси и даже словесные баталии. Специально некоторые места затянула, чтобы хоть что-то спровоцировать :-))
А то скучно у нас стало, я бы сказала — «оскливо», как прогулка в сумерках.
Аллочка!
Еще раз все перечитала и жду, конечно, продолжения. Все очень интересно, жизненно и написано великолепным языком. Меня совсем не волнуют ни мешки с картошкой, ни какие-то еще географические детали. Я жду как будут развиваться главные события. Жду с нетерпением.
Юля, спасибо большое. Не знаю, заметили ли вы, что я здесь продолжила нашу дискуссию о «жертвах». Помню, что моя позиция не нашла поддержки. Поэтому была бы рада, если бы здесь мы продолжили разговор.
Перечитал все, начиная с первой главы. Сюжет серьезный, драматический, развязка не ясна. Сам я, слава Богу, с такими ситуациями в жизни не сталкивался ни в какой из ролей, но переживаю за всех героев. Всех их по своему жаль. Жду развязку
Андрей, спасибо большое за сочувствие моим героям. Кого мы можем судить?
5-ая часть здесь. Возможно, она требует особенно внимательного прочтения … как и все впрочем :-))
Аллочка! Молодец!
Все отлично написано, жду, жду окончания…
Вопрос » кто жертвы»… Часто сюжет в рассказах меняется, меняются и «жертвы». Без привязки к рассказу мы все в какой-то степени «жертвы». Так и везде, сегодня я — жертва, а завтра — Иван Иванович…
Стать жертвой обстоятельств может каждый, это правда. Но вот есть совершенно удивительный тип «жертвы» по призванию, для которой страдание -форма существования. (Вот как та девочка, спавшая под столом на кухне. Ради помощи брату). Эту как раз тему я развила в раздумьях Этели Моисеевны.
Мои впечатления после 5-ти частей до эпилога.
Возможно повторюсь, что именно крепкий языковой фундамент, по которому автором рисуется, вообщем-то банальная история, держит читательское внимание без дополнительных ухищрений и сюжетных вывертов. Поверхностная простота повести вызывает у читателя желание предугадать развитие событий, сообразуясь с памятью о сотне таких же историй, в том числе и из своего опыта.
Однако, если бы спросили меня, я бы угадать поостерегся.
Ну, разве что, Мишу женим на Любе (по правилам советской морали), а Лану отправляем к Юрию.
Хотя, лично меня такая развязка устроила бы не очень…
К Мише до его разговора с Ланой относился сочувственно, да даже и сейчас, пожалуй.
Частенько упрекал авторов за описательные многословные отступления, которые, по-моему мнению, необязательны в сюжетном контексте.
В данном же случае, хочу отметить органично вкленную историю Этели Моисеевны — обыденную, по рамкам того времени, но, именно в силу этой обыденности, доносящий весь трагизм и ужас до читателя в полной мере («Только не упади, Этичка, только не упади!»).
Короче, Алла, впечатлен!
Ой спасибо! Левон! Согрел мою душу!
Моралфаг — слово из молодежной лексики. Слово пОциент написано через о с иронией , а не по ошибке
Аллочка, вы — молодец!
Я прочитала еще раз с большим удовольствием весь рассказ, он напомнил мне, также как и Левону, судьбы многих наших знакомых. Я окунулась во времена нашей молодости.
Меня всегда радует прекрасный язык и стиль. Пора уже публиковать книжку. Не надо лениться, Аллочка, надо вам писать. Уверена, что у всех нас есть что рассказать и умение выразить свои мысли в интересной и захватывающей форме. У вас получилось!!!
Юля, спасибо! Неужели ещё раз весь осилили?! Это подвиг. :-)) Спасибо огромное. Финал, казалось, был предсказуем, и все же психологически иной. Простила Мишу своего за одну коротенькую фразу :-))
Но подробно о «творческом» процессе напишу попозже, чтобы никого не давить. Все ещё надеюсь и на другие отзывы, возможно даже, на анализ каких-то эпизодов.
Конечно, это своё, но, пытаясь судить отстранённо, нахожу вещи интересные, за которые не стыдно :-))
Прочитала. Язык прекрасный Не могу не отметить выражения: «пушечный выстрел захлопнушейся двери, музыка ландшафта, глаза лани — глаза Ланы, приступ православия головного мозга, готовность страдануть, визгливое бешенство, взгляд утратил льдистость и т.д.» Герой чем-то напоминает мне горьковского Клима Самгина — никакой. Все-таки хочется чего-то положительного. На мой взгляд, была бы гораздо интереснее линия Лана- Юрий, их встречи, увлечения, любовь, в конце концов. Эти два образа очень удачные; их видишь, чувствуешь. А слизняки Миши… ну что на них тратить время и талант. Прости, если тебя разочаровала.
Лена, спасибо тебе большое! Не разочаровала ничуть, что ты! Я очень рада, что понравился язык, что даже едва намеченные образы Ланы и Юры показались тебе живыми. Рада, что Миша вызвал эмоции и, как ни странно, именно те, что испытывала я.
Но честно говоря, если перефразировать Толстого, все «счастливые люди похожи друг на друга», а вот «каждый несчастный несчастен по-своему». Именно поэтому мне как раз более интересен был Миша, потому что пыталась понять две вещи: как меняет человек и судьбу и самого себя, когда отказывается от предначертанной дороги, как плывет по течению, как перестаёт сопротивляться даже саму себе в своей подлости, жалеет ли что не сделал какого-то важного или каких-то важных шагов, осознает ли он это или умеет забить чем-то, чтобы не думать, приходит ли горестное понимание или самообольщение длится вечно.
Не знаю, удалось ли мне это, но то, что Миша у многих вызывает сочувствие и переживание для меня очень отрадно.
Пока больше писать не буду, а то остальным комментирующим будет не о чем писать (а я этого очень жду. :-))
Тебе, как автору, виднее. Но копаться в голове таких миш -брр — не хочется. Уж больно их много, вокруг нас — одни «миши». Мне, наоборот, интересны люди творческие, с полетом. Почему бы тебе не написать что-нибудь о Моцарте. Кстати, шмиттовский рассказ о Моцарте (уже не помню, как называется) не особенно понравился. Это я так, брюзжу по-стариковски. Извини.
:-)) Лена, спасибо, но с Моцартом ты загнула все-таки!
В твоём комментарии можно найти и ответ: «уж больно их много вокруг»…
Прости за высокое сравнение, не подумай, что о себе «задумала высоко», но все же осмелюсь задаться вопросом: а почему Пушкин выбрал главным героем не поэта Ленского, а не чувствующего вкуса жизни Онегина?
Почему не развил линию Ленский -Ольга? А взял да и довёл Онегина до подлости? А чеховский Иванов? Да и рассказ этот Шмитта (а мне как раз понравился:-)), насколько я помню, не о Моцарте, а о том, как люди проживают не свою, а чужую жизнь.
Мне кажется Миша — это тип времени: не сделал лишнего шага в любви, хотел и не испугался уехать, был хорошим лектором, но и этого не использовал.
И все равно жаль его почему-то …
Очепятка в предпоследнем предложении : «….. хотел и испугался уехать»…
Конечно, с этим соглашусь: и насчет «православия головного мозга» очень точно подмечено, o всяких мишах-менеджерах не говорю — всю Россию застолбили эти «менеджеры» , телефон страшно снимать, все орудуют как волки Ди Каприо, в этом ты права.
А про Моцарта я не загнула и искренне считаю, что это бездонная тема для художественного выражения. Нас удивляло, помнится, как — у Д.Самойлова пьяненький Моцарт, а какие прекрасные стихи, а рассказ Паустовского, даже у Радзинского из какого-то микроскопического счета выросла целая теория. Помнишь, мы с тобой читали о «Реквиеме» Моцарта (не помню автора, но могу посмотреть, все, что меня впечатлило, я записываю) — там тьма сюжетов. Возьми письма М., где нет знаков препинания, а одни тире, паузы и .сплошной поток сознания. Да это поле невспаханное….Подумай, не ленись. Грех зарывать талант в землю.
Я уже писал о «библейских глазах» в пятой главе (не графе), упоминание которых неожиданно поставило повествование на новую грань, выступило контрапунктом и породило совершенно новую сюжетную линию, окрасив весь рассказ новым цветом. Прочитав эпилог, вновь обнаружил похожий прием. Автор вновь все так же неожиданно (во всяком случае для меня) меняет смысл повествования, наградив «либеральной наружностью» cвоего постаревшего героя. Хочется выяснить, понять для себя, насколько оправданы эти два контрапункта, так неожиданно перекрашивающие сюжет? В первом случае ответ для меня очевиден — да, литературный ход великолепен, он обостряет и оживляет рассказ, сомнений нет. Что касается второго момента, то здесь вопрос сложнее. Даже несколько страшновато выкладывать свои соображения, но что-то мне явственно в этой «обтрушечке» чувствуется запах серы…Сдается мне,что вообще весь эпилог был переписан буквально в последний день перед публикацией. Пожалуй дальше свои соображения оставлю при себе. Один еще только момент напоследок — либерализм и православие головного мозга есть вещи несовместные, тут имеет место быть некоторая путаница в наших реалиях.
Андрей, спасибо за раздумья! В чем-то ты прав, я многое из задуманного переделала, как раз убрав напрочь политику и политические споры, а именно это хотела включить в диалог Миши и Юры. Но бог миловал и благодаря последнему выходу из-под печки исключила :-))
Ты , боюсь, слишком болезненно и несколько корпоративно воспринимаешь различные оттенки слова «либерал» :-)) Это ведь не обозначение политической позиции, это скорее определенные предпочтения, например, западничество как религия :-)), несмотря на которые Миша все же замечает недостатки, задумывается о битвах против изменения старого Лондона. Ну и так далее…
Что же касается православия головного мозга, то это произносит младший сын, а молодёжи, как и мне впрочем, думается, совершенно все равно против православия или за выступаешь ты, говоря о политике. (Даже я в эти тонкости не вникаю, хотя конечно луркмор проштудировала.
Поэтому старший и заменил это «политотой»: ему тоже пофиг.
Мне бесконечно жаль, что ты, увлёкшись политикой, как-то совершенно ничего не смог сказать об образе, о финале и о том, что действительно было важно, хотя, вероятно, в этом больше моей вины как автора.
А контрапункт в эпилоге был, но он не был связан с политикой.
Добавлю вот ещё что по поводу «неожиданности»: мы делили себя на либералов и патриотов до и после развала Союза? Или это случилось вдруг? С человеком за 30+ лет может случиться все что угодно совсем не вдруг, а вполне себе постепенно. Вон Глебыч твой за пять лет сменил гражданскую позицию, от пропутинца до борцуна с режимом, но ты ведь нашёл этому оправдание? :-))
Политота это, Андрей, политота головного мозга :-))
А соображениями, раз уж о них зашла речь, надо было делиться, а не многозначительно о них умалчивать. Мне кажется, так честнее.
Не поняла про «запах серы», но если этот запах заставляет думать, чувствовать, обсуждать, то лично я предпочитаю его удушающим благостным ароматам росного ладана.
Возникающие же параллели -вопрос личного восприятия.
Я за это не в ответе :-))
Про серу постараюсь прокомментировать чуть позднее, нужно найти слова, а пока сообщаю, что нашел в тексте еще одну прозопопею: «Сосульки толпились на краешке крыш, время от времени то одна, то другая с решимостью самоубийц отчаянно бросались вниз»
Ты решил и обсуждению придать кольцевую композицию? Закончить, чем начал? :-)) (кстати, мне кажется, этот композиционный приём мне в рассказе удался, опять же без ложной скромности:-))
Но я рада, что ты не ограничиваешься «либеральной наружности». Спасибо.
После Эпилога.
Ну…, если по мне, то линия рабочая (архитектура и по деталям) уступает линии личных отношений.
Поэтому придание важности «подлости» этого момента (спертый проект) на меня не произвел нужного эффекта. По-моему, это повседневная практика в этой сфере…
И еще. При всей авторской «долбежке» Миши, мне все равно этот образ не показался безнадежным и пригвожденным к позорному столбу, хотя бы только потому, что некоторое время он оставался привлекательным для Ланы. Этот, пусть и кратковременный выбор Ланы перевешивает (для меня) все прочие, приписываемые ему недостатки.
Левон, спасибо тебе , и прочёл и сопереживал, чего ещё автору надо.
По поводу линий совершенно согласна, личная для меня и была главной..
Мишу долбила не я, он сам так устроил свою жизнь, боясь выйти из зоны комфорта. На самом деле именно эта тема меня привлекла.
Конечно, у меня и в мыслях не было, показать безнадёжность моего героя. Вопрос был в другом для меня: простить или нет. Грешна, сначала склонялась к мысли о казни (что логично для женщины) , но не смогла следовать этому коварному плану, потому что Миша неожиданно для меня произнёс фразу : «Ты поменяла духи», явившуюся для меня контрапунктом и изменившую мои намерения (что тоже естественно для женщины:-))
И Лана это поняла, думаю, именно так.
Поэтому я и привела Мишу к раскаянию, к умению видеть и чувствовать другого человека. Да, он оплакал себя, но это и должно было случиться, как мне думается.
Как кто-то сказал: любовь делает мужчину сильным, но слезы делают его ещё сильнее.