М.М.Пришвин. Дневники. 1905-1927
Красота управляет миром. Из нее рождается добро, а из добра счастье, сначала мое, а потом всеобщее…
…наше назначение не определять вперед от себя, а присмотреться ко всему и согласовать себя со всем.
Но без родины — нет земли.
Каждый вступает в таинственный круг и снова проходит то, что миллионы прошли…
Сила женщины – господство над буднями. Мужчина взлелеянный цветок…Русская жизнь вообще такая: признание какого-то теоретического положения ведет за собой немедленное практическое действие.
…я не смог унизить ее животным чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к себе первоначальному.
… в этом и смысл каждой жизни: чтобы личное перешло в общее.
Но что-то в нем есть такое, что не очень хочется слушать: вянет у него и скучает что-то в голове.
Д.С.Мережковский — настоящий иностранец в России…
Но у него (Мережковского) нет ни покаяния, ничего…- он декадент.
…он (Мережковский) словесник, который искренно хочет отказаться от словесности, то есть от самого себя…
Какое право я имею быть пессимистом, когда жизнь не удалась мне…
Есть в жизни какая-то кроткая логика, вечная прекрасная форма – надо научиться выделять ее из природы.
Россия… Ей нужно… просветление… аполлоническое просветление.
Не будь мужика в России, да еще купца, да захолустного попа, да этих огромных просторов полей, степей, лесов – то какой бы интерес был жить в России?
Весна родится в марте, как ребенок с чистыми глазами, целует, не думая, нечаянно.
Это начало весны… Я это почувствовал. Посмотрел вперед, а там проталинка, и еще, и еще. Весь южный склон леса в таких темных душистых проталинах. А снег белый, белый… Тут я глянул на небо… А там! Облака много нежнее этого белого снега… на синем небе были такие легкие, прозрачные… И вдруг я понял, откуда они. Откуда они… из леса… из снега… улетели на небо, а тут остались темные пахучие проталины. Сколько проталин – столько облаков.
Вся беда в России, говорил мне высокий чиновник, что нет средних людей. Средний человек – это существо, прежде всего удовлетворенное своей жизнью, и там, где концы ее с концами не сходятся вообще и для всех, готовое подчиниться богу, начальству или закону. Но представьте себе страну, где каждый постиг, как мировую тайну, принцип всеобщего беззакония личного, и в то же время высшее право личности, где каждый имеет психологию гения без гениального творчества, где и действительный гений не может быть законодателем, потому что тайну-то гения (личное беззаконие) все подглядели, тайна (личное беззаконие) стала всеобщим состоянием и всякого законодателя винят в двойной бухгалтерии.
…остался такой осадок… смысл, идея изгнаны из русской жизни.
Красота рождается из страдания. Она есть просветление страдающего человека.
… потому что я слаб, я поэт…
Добро, красота есть дар природы. Этой естественной силой завладевают пророки и поэты, но если они оторваны жизнью от почвы, то неизбежно теряются в личном, становятся в лучшем случае колдунами, их слово висит в воздухе, возникает культ слова и за этим словом разломанная душа (декаденты).
Свобода существует исключительно для личности, для всех нет свободы, потому что «все» — не все личности, во всяком случае не согласные личности и сходятся между собой в узлах материальных. Потому-то и разделяется мораль на личную и общественную.
Аскетизм как цель есть величайшая нелепость, он есть покров ханжи и лицемерия (…) Настоящий аскетизм является сам собой, как морщины на лбу, как следствие глубочайших переживаний.
Крест является человеку в неволе как свет и высший дар свободы.
У человека, почти у каждого, есть своя сказка, и нужно не дела разбирать, а постигнуть эту самую сказку.
Весна – это вечно новое прикосновение к новому миру, нашему миру.
На солнцепеке на проталине кружится пар земной, и ангелы с крыльями голубыми вместе сошлись у входа в рай.
…весенний поединок зимы и солнца…
Так ясно, что надо делать для понимания мира: нужно отказаться от себя (эгоизма), и тогда душа будет светиться (поэзия есть свет души).
… то существо, перед которым боишься, стыдишься, стесняешься, не в людях, а лишь почивает на людях.
Верю, что существует мир, созданный богом, и человек его душа.
… дойти до того, чтобы не бояться и быть готовым даже на смерть, через смерть видеть мир сотворенным.
В десятом часу в сосновом бору на закате горят стволы, и кажется, там служат вечерню.
Дело человека высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир.
… и Россия вся такая же: мечтает и утопает в грязи.
Родина. Что скажет о ней дитя ее, что откроет – не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней.
Пройди по Руси, и русский народ ответит тебе душой, но пройди с душой страдающей только – и тогда ответит он на все сокровенные вопросы, о которых только думало человечество с начала сознания. Но если пойдешь за ответом по делу земному – великая откроется картина зла, царящего на Руси…
Неправда, но это больше правды, это ощущение писателя, что в такую минуту, не всякую, а вот такую-то весь мир сошелся в его сердце и он чувствует все по правде: и бурю в саду, и войну, и спящего ребенка, и все, куда ни обратилась мысль, и настоящее, и прошлое, и будущее, такая минута веры: спросите – и на все будет ответ.
Так неоткрытым, неузнанным остается для меня лицо моей родины. Несчастной любовью люблю я свою родину, и ни да, ни нет я от нее всю жизнь не слышу, имея всю жизнь перед глазами какое-то чудище, разделяющее меня с родиной.
Чудище, пожирающее нас, живет где-то близко от нас, и я видел вчера в день призыва, как ворчливая негодующая толпа оборвышей поглощалась им и они, как завороженные змеем, все шли, шли, валили, исчезая в воротах заплеванного загаженного здания…
Вы, конечно, замечали, если путешествовали по Руси, что чем лучше у нас почва, тем хуже на ней живут люди.
Новое страдание, новый крест для народа русского, я смутно чувствовал еще раньше, неминуемо должен прийти, чтобы искупить – что искупить?
…эмигрантско-политическая природа русского интеллигента…
Я вам скажу, что нужно делать: нужно учиться, граждане Российской республики, учиться нужно, как маленькие дети. Учиться!
Моей любовью стал медвежий угол России, моей неприязнью – мещанский уклад Европы.
Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию – платформы и позиции.
Издали слышатся удары топора, я иду посмотреть на человека, который так издевается над природой. Вот он сидит на огромном в три обхвата парковом дереве и, очищая сучья топором, распиливает труп. Мне больно за что: я знаю, не больше как через год мысли этого человека переменятся, и он будет сажать деревья (…) Его мысль очень короткая, но дереву такому надо расти больше ста лет; как может он приближаться со своей короткой мыслью к этому чудесному дереву.
Пошлостью называется состояние, когда идеальное наивно заменяется неизбежно житейским, цинизмом.
Ночью на страшной высоту где-то под самыми звездами, чуть слышные, летели дикие гуси, — на мгновение колыхнулось прежнее чувство красоты и великого смысла их перелета, а потом исчезло, как излишняя роскошь (1918 год)
В любви можно доходить до всего, все простится, только не привычка…
Я всегда чувствовал безнадежную серость русской жизни (…) Пусть все гибнет, что подлежит гибели и что хочет гибнуть, это гибнет частное, я отделяюсь от него и прославляю жизнь. Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе… (1918 год)
Несчастье всего нашего существования в том, что мы живем в стороне от нашей души и что мы боимся малейших ее движений.
Нужно, чтобы каждый человек нашел для себя лично возможность жить жизнью высшей среди скромной и неизбежной действительности каждого дня.
Но когда я потом рано или поздно встречу свою утреннюю звезду, я пойму, что и тогда она была, а я не был и это – мое небытие – не считается во вселенной и некому и незачем, и не нужно говорить про то, потому что это совершенно и вечно – великое. Я знаю тогда, что если бы можно было обойти крест и заглянуть в лицо распятому – он улыбнулся бы, как мы в смертельных болезнях все так улыбаемся маленькому…
В эту минуту спит, улыбаясь, дитя, и солнце восходит.
Человеком называется такое существо в природе, которое действует так, будто нет бога, закона и вообще нет ничего, кроме человека – царя природы. В этом самообмане – все существо человека.
В основу своего дела я положил чувство прекрасного, потому что красота есть пища души.
Так наша родина Россия, если мы узнаем ее географию, станет для нас отечеством: без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством.
От дел у человека ничего не остается, ничего не прибавляется, ничем не связывается прошлое и настоящее. Остается связью бескорыстное (что это?) радование жизнью (младенческое восприятие мира): было хорошо, есть что вспомнить и поблагодарить кого-то за это – вот все, что остается. Какая благоговейная святыня бывала в душе, когда видишь, бывало первую иглу зеленую травы, прокалывающую слой прошлогодней листвы, или первую пушинку снега, слетающую к ногам при наступлении зимы… Или утреннюю звезду, когда она бывает совсем близко от рожка месяца.
…голубое небо и зеленая земля обнялись на горизонте.
… новое светило, оно пламенеет, горит и гаснет и после мертвое светит чужим светом – этот мертвый свет луны в душе человека есть то, что остается после любви.
Будущее это ворота, через которые выходит прошлое переживание.
«Скажу тебе «есть бог!», ты мне не поверишь, скажу «нет» — будет неправда. Учись и узнаешь сам».
Человек — это страдающая середина между сверхчеловеком и подчеловеком.
Приспособляясь, люди хотят сохранить себя и в то же время теряют себя.
Искусство есть способность человека изображать предмет своей веры и любви (…) Вера без дел мертва, а вера без любви – зла и есть, кажется, основа величайших злодейств.
Радость, бодрость и все свои силы я получаю от моментов сосредоточенности в себе в тишине, когда рождается какая-нибудь мысль, которую можно записать.
Старики — это память о прошлом, верстовые столбы на дороге, люди, обращенные как жена Лота в соляные столбы за то, что оглянулись назад. Нельзя назад оглядываться, назади по дороге только следы прошедших, а решение впереди, за горою…
Вот сильное слово, как хлеб: «Женщина, тебе говорю, встань!» — и мертвая встает; тут слово и дело сливаются.
Сердце общественной жизни расположено где-то в брюхе провинции, а не в столице же?
Быт – культура личных отношений своих к людям и вещам. Непременно к вещам, потому что человек, считающий грехом сорить на полу и топтать ногами частицы солнечной энергии, заключенной в крошках хлеба, несомненно, и к людям относится лучше, чем сорящий на пол, небрежный…
… в России всякий мед пахнет полынью и горчит.
… и время без газет, без правил дня идет только по солнышку, тогда без времени и пространства мне вода, земля пахнут своим запахом и все в мире становится так, будто слушаешь сказку мира: в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе и так далее. Одним словом, человек заблудился, а ведь это-то и нужно художнику для восприятия реальности мира.
… остатками своего разума видишь встречу своего безумия с безумием природы.
Красит человека только любовь, начиная от первой любви к женщине, кончая любовью к миру и человеку, — все остальное уродует человека, приводит его к гибели, то есть к власти над другим человеком, понимаемой как насилие.
С годами очень устаешь от веры в человеческие достижения, и так мало=-помалу все мы делаемся до известной степени пессимистами, но это разочарование нисколько не мешает жить, любить именованных людей и делать умное, доброе, красивое и полезное дело, напротив, и думаю, вот тут только и начинает человек мало-мальски походить на человека, когда он разочаруется в человечестве.
Все хорошее русского человека сберегается в глухих местах, в стороне от цивилизации, но это при малейшем соприкосновении с цивилизацией прокисает.
Читатель, как и писатель, рождаются, а масса занимается чтением, если есть досуг.
Понимаю ошибку Руссо, Толстого и всех, кто зовет людей к «простоте»: они думают, что жизнь проще, значит, и легче, между тем как проще жить гораздо труднее. И самое трудное, что стремление к простоте жизни является у сложнейших душ, а все простое стремится к сложности.
Мое настоящее искусство живопись, но я не могу рисовать, и то, что должно бы быть изображено линиями и красками я стараюсь делать словами. Подбирая из слов цветистые, из фраз то прямые, как стены ранних христианских храмов, то гибкие, как завитки рококо. Что же делать-то! При усердии и так хорошо.
А может быть, так и все художники работают мастерством одного чужого искусства, пользуясь силой родного? Может быть, и само искусство начинается в замену утраченной как-то любви… молчаливого потока родства, продолжающего мир и изменяющего его.
В такие густые майские дни понимаю Фета, который завешивал окна своего дома именно в самые для всех лучшие дни: слишком густа жизнь, не хватает себя на нее и надо прикрыться.
Блок для меня – это человек, «живущий в духе».
Вот рука с длинными пальцами застегивает ночную кофточку на груди, дверь открывается, выходит счастливец, и вдруг оживает автомобиль, бурлит и мчится с хозяином на службу.
… эти люди, тоже не овладев собственной жизнью, хватались за ложное солнце…
… или я смертельно заболею, или какая-нибудь случится страшная беда, то не унизиться бы и перемогнуть.
Значит, это все неудачи, несчастия, перечеркнутые черновики.
Да, действительно Ленинград, потому что Петербург умер – это другой город.
… лирика моя в романе имеет значение жажды затерянного человека найти родную душу для встречи.
Дневники. 1951
Все мои сочинения доказывают, что всякий пустяк, отнесенный к вечности, сам собой о ней свидетельствует, как будто если со всем возможным вниманием его разглядеть, то вечность и туда в него проникает.
Смерти никогда не надо бояться: она во всяких случаях, может быть, и пройдет, а от одного только страха можно умереть.
… боязнь смерти свойственная молодости и она значит только, что жить еще хочется.
Мне сейчас, в мои 80, еще очень хочется жить, и я еще боюсь своего конца, но характер этой боязни стал какой-то иной. То бы страх безотчетный и глубокий, как умирают весной, а теперь, осенью, я знаю, что умирать нужно, что без этого не обойдешься, и хотел бы, первое, что-то закончить, к чему-то прийти, и второе, поменьше бы собою огорчить близких людей.
… лет мне много, силы падают, я падаю и дорожу своим днем для себя: я стал как, сухой лист.
… и я, как первобытный дикарь, древнейший человек, делаю из глины первый сосуд и заключаю в него для друга моего пробегающую жизненную силу. … там была вода и глина, теперь у меня дух мой и слово, и я из слова делаю форму.
Опираясь на землю, я поднимаюсь: и надо мною небо, все небо мое. И начинается симфония Бетховена, и тема ее: все небо – мое.
Какой был вечер вчера! Налево на западе река цвела после заката октябрьским цветом с подзолотою, на востоке река лежала под месяцем в его полнолунии. Было две реки, как две души: в одну стороне – человека под конец жизни в его робкой надежде на будущее, в другую – души там, на том свете, где мы все когда-нибудь будем.
Туда и сюда, на запад и на восток, я поминутно повертывался как будто в поисках точки зрения, откуда можно было бы смотреть и видеть то и другое.
Вообразить рай можно по себе, по той минуте полной душевной гармонии, какую многие, если не все, знают в себе. Эта минута, мгновение полного счастья, у всех непременно и жизненно сменяется пошлостью и в ней растворяется.
За этим мгновением, вытаращив глаза, раздвигая локтями все на своем пути, лезет сектант и филантроп-благодетель.
Его, это мгновение, хотел остановить и удержать Фауст.
И, несомненно, рай, как прекрасный сад, возник из него, и каждое музыкально-художественное произведение родилось как попытка удержать это мгновение. Оно вполне реально, это мгновение, и поэты называют приход его вдохновением.
Сокровенная моя жизнь вся собирается в ожидании этого мгновения, в ощущении его: я чувствую его и жду бессознательно, не понимая даже, что оно давно уже узнано и устроено, как агрегат поэтической души.
На простой прогулке после утреннего завтрака обыкновенный дачник встречает приход прекрасного мгновения к себе пошлым восклицанием… А художник, как раненый, хватается за кисть и в труде адском топит невыносимость своего счастья, оттого и труд его делается возможным…
Начинаю чаще и чаще уходить в музыку: вот область, куда можно уходить, уезжать, путешествовать там без огорчений от грубого вмешательства нового в старое: вынь да положь!
В слове есть скрытая энергия, как в воде скрытая теплота, как в спящей почке дерева содержится возможность при благоприятных условиях сделаться самой деревом…
Я думаю, что если и совершенно здорового человека привезти в больницу с диагнозом инфаркта, то пока доктора дойдут в исследованиях до истины, то и здоровый человек чем-нибудь заболеет от мнения, ухода, лекарства, вида умирающих людей, а может быть, даже и помрет.
Когда внутреннее и душевное состояние определится на бумаге в словесной форме, самому же автору кажется это воплощение своей обыкновенной мысли или там чего-то в форму каким-то чудом, явлением чего-то сверх себя самого и небывалым.
В этом и есть очарование творчества: кажется, будто ты не один делал, а кто-то тебе помогал.
Боже мой! Дай мне только здоровья, чтобы оно поддержало силы мне, чтобы юношей, а не стариком войти в новую жизнь и там бы все мое лучшее нашло свое место и процвело.
… чтобы они (люди) верили в единую жизнь здесь и там, а не пугались частным случаем.
«В эти минуты незаметно для нас Михаил Михайлович тихо скончался» (Из дневника жены В.Д.Пришвиной)

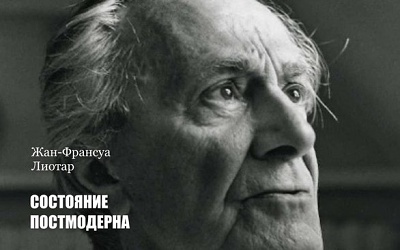



Саша,
наверное твоей целью было отпугнуть нас от Пришвина.
Напугал.
Это что:
Моей любовью стал медвежий угол России, моей неприязнью – мещанский уклад Европы.
Все хорошее русского человека сберегается в глухих местах, в стороне от цивилизации, но это при малейшем соприкосновении с цивилизацией прокисает.
и пр.
Мракобесие?
В каждой шутке…
В данном случае, Андрей, — твой специфический взгляд на вещи. Не без влияния Розанова, полагаю.
Я вам свет хочу показать, а ты — «напугать»!..
Да и в этих-то двух цитатах… Вторая, так просто не в бровь, а в глаз, особенно если взять наши дни. Возьми, к примеру, Москву — этот российский плацдарм на пути в цивилизацию. На деле — сплошное уродство и разврат. А все, что хорошего от русского человека осталось, так только на периферии и стоит искать. В центре — уже точно не найдешь.
Ну а первая фраза — ее можно отнести к историзмам и к специфике восприятия на определенном этапе истории и жизненного пути. Вспомни, ты и сам так еще недавно думал. А прошло всего несколько лет, и уже «напугался»…
В принципе же верно и это. По крайней мере объяснимо. Замени слово «мещанский» на «потребительский», вспомни чистых сердцем и умом людей, которых тебе в разное время приходилось встречать в глубинке, их честность, открытость, радушие… Сравни это все с формализмом и ритуальностью поведения людей в центрах т.н. цивилизации, включая Москву, и ты поймешь, что не так уж Пришвин и неправ.